совано на листе. Мефодий опять громко засмеялся и тоже полез в
сумку.
-- Те самые, о которых мы тогда на крыше говорили, -- улыбался,
разглядывая свой лист, Константин. -- Ты, признаюсь теперь, очень меня тогда
расстроил. Тем, что, оказывается, сам тоже в детстве так баловался. Я вдруг
подумал, что, наверное, и вообще каждый мальчишка сам однажды, научившись
писать, пробует что-то такое придумать...
-- Так и есть.
-- ...А я-то думал: "Это я один такой умный!" Почти как кто-то, кто
когда-то в древности впервые буквы изобретал. Вот они все, -- Константин
протянул Мефодию небольшой истрепанный старый пергамент. -- Так старался,
выдумывал...
Мефодий, склонившись над пергаментом, улыбался: -- Ага! -- хлопнул он
по столу. -- Вот эту... и эту -- помню! А эту улиточку -- забыл! Красивая...
-- он показал Константину свой кусочек пергамента: -- Вот, тоже сегодня
вспоминал.
Они оба громко засмеялись. Переписчики опять недовольно подняли лица.
Выскоблив свой пергамент, Мефодий перерисовал на него все закорючки,
Константин, посмеиваясь, наблюдал за ним, подперев голову рукой.
-- Готово! -- гордо сказал Мефодий, посыпал пергамент песком и хитро
подмигнул Константину.
-- Только никому не говори, чем ты тут сейчас занимался, -- посоветовал
тот, по-прежнему улыбаясь. И тихонько, покачав головой, добавил: -- Пожалуй,
ты был прав тогда, отказавшись от сана архиепископа. Хорош бы сейчас был!..
Мальчишка, позор...
Мефодий, смеясь, встал, поцеловал Константина в лоб и, помахивая
свернутым пергаментом, извинился: -- Не терпится! Побегу попробую! Я,
похоже, уже знаю, с чего начну. А завтра посмотрим -- кто лучше!
-- Посмотрим, посмотрим! -- обиделся Константин.
Когда Мефодий вышел, он пододвинул поближе толстую книгу в коричневом
позолоченном переплете и открыл ее наугад. Прочтя страницу, удивленно
покачал головой и улыбнулся. Попробовал перевести с греческого -- оказалось
совсем просто.
"Вдруг раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и
наполнил весь дом, где они находились и явились им разделяющиеся языки, как
бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа
Святого и начали говорить иными языками, как дух давал им вещать. Жили в
Иерусалиме Иудеи, благоговейные люди из всякого народа под небом. Когда же
прошел об этом слух, собралось много людей, и пришли в смятение, потому, что
каждый из них слышал, как они говорили на его собственном наречии.
Изумлялись все и дивились, говоря: вот все эти говорящие, разве они не
Галилеяне? Как же мы их слышим на своем собственном наречии, в котором мы
родились? Парфяне, и Мидяне, и Эламиты, и живущие в Мессопотамии, в Иудее и
Каппадокии, Понте и Асии, Фригии и Памфилии, в Египте и в частях Ливии,
примыкающих к Киринее, и пришедшие из Рима, как Иудеи, так и прозелиты,
Критяне и Арабы -- слышим, как они говорят на наших языках о великих делах
Божиих? И все изумлялись и недоумевали, говоря друг другу: что бы это могло
быть? А иные издеваясь говорили: они напились сладкого вина!"
Когда Константин нарисовал последний значок, уже почти стемнело --
ровные ряды крючочков, загогулинок и букашек, заполнившие весь лист, были
еле видны.
Константин отодвинул пергамент от глаз, полюбовался им издалека и
тихонько -- как будто и вправду был пьян -- засмеялся.
Собирая книги, он взглянул в окно -- над крышами и куполами, на
зеленоватом небе, проступали первые звезды. Выйдя из опустевшей комнаты, он
по темной лестнице спустился во двор и -- все так же улыбаясь -- медленно
пошел домой. Не зажигая огня, в темноте, пожевал хлеба, долго молился, потом
лег и -- опять, в который уже раз за этот день -- улыбнувшись, уснул.
Почему-то ему во второй раз приснились быки. Шли себе...
До Велеграда Константин и Мефодий добирались больше месяца. Не спеша, с
долгими приятными остановками в Болгарии, потом, так же не спеша, небольшими
дневными переходами, дальше -- на северо-запад.
Каждый вечер, сидя у костра или просто лежа в темной палатке, они
подолгу разговаривали.
-- Ну а что, если им вдруг не понравится?.. Ты не боишься? -- спросил
однажды Мефодий.
-- Конечно, будут такие. Как без этого! Стариков, например, всегда
тяжело учить -- чему угодно. Но их ведь мы учить не будем. Мы -- начнем с
мальчишек! -- Константин замолчал, слушая сверчков в кустах вокруг палатки.
Потом засмеялся: -- А вообще, если судить по нашим славным спутникам, то все
будут просто счастливы! Я представляю, какие слухи уже идут о нашем... гм...
приближении -- гонцы ведь приезжают и уезжают каждый день!
-- Знаешь, -- сказал Мефодий, -- ты все равно не говори никому, что сам
эти буквы придумал, ладно?..
-- А вдруг спросят?
-- Если ты с самого начала всем своим видом не покажешь, что такие
вопросы очень глупые -- обязательно найдется умник. С самого начала должно
быть ясно, что эти буквы были вечно! Ну или, там, в крайнем случае, что тебе
откровение какое-нибудь было...
-- Прям, откровение...
-- Врать не надо. Но и правду говорить -- тоже необязательно? Промолчи
с таинственным видом. Вот сам ты помнишь: ответили тебе что-то, и что, когда
ты спросил, кто греческие буквы придумал?
Константин задумался. -- Не помню, -- сказал он. -- Кажется, ничего не
ответили...
-- А ты что, спрашивал?!.. -- удивился Мефодий.
-- Конечно. Помню даже, почему. Я прочел -- или это еще раньше было? --
тридцать первую главу "Исхода". Помнишь? "И когда Бог перестал говорить с
Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали каменные, на которых написано
было перстом Божиим..." Вот я и удивился: или Бог знал еврейские буквы --
тогда, значит, был кто-то, кто их раньше придумал; или -- сам их и изобрел
для скрижалей, но как бы тогда Моисей и все остальные их поняли? Значит,
были раньше. Ты, кстати, не помнишь, где-нибудь до этого упоминается в
библии, чтобы хоть кто-то хоть что-то писал? Кажется нет...
Мефодий пожал плечами. -- Похоже. Я, во всяком случае, не помню, --
подумав, сказал он.
-- Все буквы придумали сами люди, -- сказал Константин. -- Вот армяне
про свои точно знают кто: Месроп Маштоц. А я чем хуже ихнего Месропа?.. --
он засмеялся. -- Тоже мне: Месроп!
-- Скорее всего, никому особо интересно-то и не будет... Так что можно
не переживать. Наверное, никто даже и не спросит...
-- Вот обидно-то будет, а?! -- засмеялся Константин. Мефодий тоже
улыбался в темноте.
-- А какую букву ты первой придумал? -- вдруг спросил он.
-- Да разве я помню? То ли "а", то ли "к".
-- А почему... Хоть мне-то скажи: почему ты их именно такими
нарисовал?! Почему не по-другому?!
Константин молча смеялся.
Когда Мефодий уснул, он вылез из палатки и еще долго, отмахиваясь
веткой от назойливых паннонских комаров, бродил по притихшему лагерю,
присаживался у чужих костров, рассматривал, стоя на невысоком холме у реки,
звезды на светлом весеннем небе. Звезды были те же, что и везде.
Уснув наконец, он опять увидел старый знакомый сон.
Вроде бы ничего и не изменилось, телеги катились и катились, колеса
скрипели, погонщики пели, перекликались на своем жутком языке, так же сухо и
громко щелкали бичи. Но Константин понял вдруг, что это -- на самом деле --
уже другой сон!.. Вернее, другие, новые телеги. А те, из предыдущего сна,
давно укатились куда-то. И прикатятся новые. И этот бесконечный караван без
остановок будет тянуться и тянуться в сумерках по укатанной в камень дороге.
Мимо маленького, затаившегося в кустах человека.
Он опять вслушался в говор погонщиков, в слова их песен и опять ему
почему-то стало страшно.
В следующий раз телеги приснились ему уже в Моравии, в Велеграде, после
первых уроков письма.
На первый урок привели пятерых мальчиков: Лаврентия, Климента, Горазда,
Ангелария и Наума.
-- Как тебя зовут? -- спросил Константин у самого маленького,
рыженького.
-- Наумом, -- ответил тот.
-- Вот твое имя... -- Константин нарисовал на вощеной дощечке
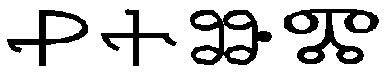 Наум засмеялся: -- Нет, -- сказал он. -- Меня Наумом зовут!
-- Повторяю, -- грозно сказал Константин. -- Теперь твое имя будет
таким!.. -- он опять вывел на доске те же знаки и торжественно произнес: --
Н-А-У-М !.. -- мальчик не выдержал его холодного, торжественного взгляда и
опустил глаза.
-- Твое имя?.. -- спросил Константин у следующего.
Сидящий в углу Мефодий, закрыв лицо руками, тихо смеялся.
Через полгода каждый из этих мальчиков уже свободно читал с листа "Отче
наш...". Вместо "Pater noster...", как приходилось до этого.
А еще через долгих четыре года, когда научились писать и уже сами
пробовали учить этому других ученики тех первых пяти мальчиков, Мефодий
сказал вдруг жалобно Константину (дело было во дворе новой церкви, которую
Мефодий только что освятил):
-- Слушай! Не могу я так больше! Руки опускаются. Давай, что ли, в Рим
поедем?.. Отвезем твой мешок с костями. Потому, что уже измотали меня эти
склоки. Я, кажется, начинаю Фотия понимать...
Все было очень просто: "Отче наш..." вместо "Pater noster..." стало в
последнее время многих вокруг раздражать. Жалобы, как недавно выяснилось,
шли теперь в Рим почти каждый месяц...
-- Опять?!.. -- возмутился Константин. Случившегося только что на
крыльце церкви мерзкого скандала, устроенного каким-то случайно попавшим на
сегодняшнюю службу проезжим итальянцем, он не видел, отходил по малой нужде.
-- Кто? Вот этот старый хрен?.. -- Константин показал кулак удалявшемуся
старичку.
Мефодий грустно кивнул: -- Пообещал -- правильно! -- написать в Рим...
Лично папе. Опять. Ябеда. Слюнтяй!
-- Знаешь, а ведь поедем! -- Константин встал. -- Я им там устрою...
Пойдем, и мы наконец напишем! Прямо сейчас.
Шагая по комнате он еще продолжал возмущаться: -- Сами же облопухались,
а теперь шумят... Вон, Ульфила германцам буквы сделал? Сделал. И никто с тех
пор не возмущается. А сейчас -- опоздали. Так нечего и кричать.
-- Но и буквы у них -- считай латинские, и службы остались на латыни. А
тут -- они же ничегошеньки не понимают. Ты им сразу: вместо "Dominus
vobiscum" -- какое-то "Господи помилуй"! Скандал!..
-- Так ведь так лучше!
-- Не, ну с этим никто не спорит...
-- Вот и пиши! "Проезжая через Херсонес..." Нет, стой. Начнем
торжественнее. "Его преосвятейшеству папе Николаю I. Девять лет назад,
выполняя поручение патриарха Фотия, я возглавил миссию, направленную
константинопольским престолом в Хазарский каганат. По пути к хазарам мне
довелось побывать в городе Херсонесе, где с Божьей помощью, обнаружены были
мною мощи ученика святого Петра, четвертого архиепископа римского святого
Климента, сосланного, как известно, в Таврию в сотом году от рождества
Христова и мученически принявшего смерть в водах Черного моря. Теперь,
спустя восемь веков, волею Господней, мощи святого великомученика Климента,
автора знаменитых "Посланий к девственницам", вновь обретены!.." --
Константин вдруг остановился, рассеянно замолчал. -- Вот только куда я их
сунул? Кажется, в том сундуке, где книги...
Мефодий опять тихо смеялся, склонившись над пергаментом.
Папа Николай I до их приезда в Рим не дожил -- о его смерти Константин
и Мефодий узнали по дороге, ожидая корабля в Дубровнике.
Но папа Адриан II, преемник Николая, тоже оценил подарок по
достоинству. Уже в дне пути от Рима Константина и Мефодия встречала
торжественная делегация: красивый зеленый холм, на который, вывернув из-за
небольшой рощицы, стала взбираться дорога, сверкал издалека пестрой россыпью
раззолоченных одежд духовенства. Ближе к Риму процессия вошла в плотную
толпу горожан. Солдаты с трудом сдерживали натиск всех, ктопытался хотя бы
коснуться золотых носилок, на которых лежали, покрытые расшитым драгоценными
камнями покрывалом, чудотворные мощи святого Климента.
За носилками следовал паланкин папы, потом -- рядом -- два паланкина
поменьше, в которых сидели Константин и Мефодий, следом, пешком,
архиепископы, епископы...
-- Ты хоть что-нибудь похожее мог себе представить? -- весело спросил
Константин, оглядываясь по сторонам.
-- Нет, приятно, а? Хотя даже как-то неловко немножко...
-- Отчего неловко? Мы же их не обманываем -- они и вправду из
Херсонеса...
Какой-то увечный, проскочив между солдатами, с криком вцепился в край
покрывала, чуть не опрокинув носилки с мощами, упал сам, забился в
судорогах. Его отволокли за оцепление.
Процессия приближалась к базилике святого Петра. Константин и Мефодий
оглядывались по сторонам, рассматривали церкви, дворцы, вглядывались в лица
людей.
-- Хороший город! -- сказал Мефодий. -- И люди самые обычные. Тоже
хорошие.
-- И я тем более не пойму, зачем наш Фотий их прошлого папу низложил?
-- это произошло почти два года назад, но много говорили об этом скандале
еще до сих пор. -- Ты можешь мне это объяснить?
-- Да он, наверное, пошутил. Тем более, что кто ж тут его послушался
бы? Что ты, Фотия, что ли, не знаешь?
-- С юмором у него всегда было неважно, -- покачал головой, улыбаясь
радостно кричащим людям, Константин.
Аббат Анастасий, у которого они остановились -- тоже, как когда-то и
Константин при Фотии, библиотекарь -- уже в первый свободный вечер собрал
друзей: послушать в исполнении самого Константина рассказ об обретении мощей
Климента.
Посидели на удивление славно. Глупых вопросов почти никто не задавал.
Эпизод с якорем (привязанным, как было известно, перед смертью к ногам
Климента), который Константин тоже нашел недалеко от костей, окончательно
удовлетворил затесавшихся зануд. Все остальные оказались прелестными людьми!
И вино было отменным: Константин рассказывал вначале о чудаковатом хазарском
Кагане, потом -- о поездке в Сирию и забавной дискуссии с тамошними
мусульманами, о Моравии, о новых буквах.
А Мефодий влез со своей классической, уже десяток раз обкатанной,
байкой о Фотии: так сказать, "кстати о хазарах". Сейчас, когда еще совсем
недавно только о Фотии все в Риме и говорили (ругались папы с патриархами и
раньше -- но в этот раз, похоже, дело, действительно, слишком далеко зашло)
-- успех байки был потрясающим!
Байка заключалась в том, что Фотий -- из хазар. И в качестве
подтверждения этого приводилась фраза императора Михаила. Выслушав однажды
жалобу государственного секретаря на то, что Фотий распространяет учение о
двух душах в человеке (вследствие чего прислуга требует двойной паек),
Михаил, якобы, ужасно развеселился и сказал:
-- Так вот что проповедует эта хазарская рожа!.. -- отсюда и пошло.
-- А он... Фотий... Он, что, и вправду так считает? Что... их две?.. --
испуганно спросил какой-то молоденький монах. -- Я читал, что хазары,
действительно, это говорят... Но Фотий же...
Все захохотали.
-- За слова Михаила -- я ручаюсь, -- сказал Мефодий. -- А остальное,
так сказать, люди рассказали. Нет, конечно, может он и вправду так считает,
я откуда знаю? На эту тему мы с ним, кажется, не говорили. Вот про его
любимое "филиокве" -- сколько угодно. А про две души -- что-то не помню...
-- А вообще-то, он, несомненно, хазар, -- подытожил Константин. -- В
душе, по крайней мере.
Разошлись только глубокой ночью, Константин, усталый, но очень
довольный первым проведенным в Риме днем, уснул, едва коснувшись головой
подушки.
Телеги продолжали катиться.
Этот сон -- один и тот же -- снился Константину вот уже который месяц.
Почти каждую ночь. Попытавшись однажды прикинуть, сколько за это время
мимо него прокатилось телег, Константин испугался.
По утрам, вспоминая сон, он становился мрачным. А со временем
почувствовал, что уже просто болен. Мефодий тоже заметил перемену в
Константине, но пока молчал. Ничего не говорил и сам Константин -- пока было
не до этого.
Приближался ответственнейший богословский диспут. Этакий как бы
экзамен... От него зависело -- продолжатся скандалы в Моравии, или нет.
Константин и Мефодий были уверены в успехе, но, все равно, как и положено
перед экзаменом, немного волновались -- два дня перечитывали, сидя во дворе,
на солнышке, Василия Великого и Григория Богослова.
Экзамен, как и ожидалось, оказался простой формальностью. Римские
богословы, по сравнению с Константинопольскими, были как-то совсем уж
простоваты...
Анастасий, подслушивавший за дверью, крепко обнял вышедших Константина
и Мефодия -- он волновался гораздо больше их. И уже прикупил несколько
кувшинчиков неплохого вина.
Вечером опять собралась приятная компания -- отметили успех. Очень
хорошо посидели.
Ночью, уже под утро, опять приснился сон с телегами. Константин
заинтересовался наконец, что же в них лежит. Оказалось, что там камни. Или,
может быть, даже простые кирпичи -- большие, в каждой телеге помногу. Легче
от этой новости ему не стало.
Утром опять очень болела голова.
С головной болью стоял Константин на службе в базилике святого Петра.
Лучшего подтверждения прочности их теперешнего положения в Моравии нельзя
было и придумать. Папа Адриан лично освятил подаренное ему Константином и
Мефодием евангелие, написанное по-славянски, новыми значками. Он
торжественно водрузил его в алтаре базилики, на специально сделанном по
этому случаю позолоченном столике.
-- Очень мило с его стороны, -- шепнул Константин Мефодию. -- Особенно,
если учесть, что он не знает славянского. И не понимает в книге ни одной
буквочки. Мало ли, что я там понаписал! Может я коран переписывал... Нет,
правда приятно. Значит, действительно доверяет... Славный человек. --
Мефодий кивнул, не поворачивая головы. Константин помолчал, а потом опять
зашептал: -- Я никогда и представить такого не мог... Что мои детские
секретные закорючки -- я же их придумал, чтобы никто понять не мог что
написано! -- и удостоятся вдруг... гм... такой высочайшей почести...
Мефодий сурово покосился на Константина, но не удержался и чуть заметно
ему подмигнул. Последнее слово папы стихло под сводом базилики и тут же,
ниоткуда и отовсюду, со всех сторон, отраженный стенами, витражами,
рассеченный колоннами, зазвучал торжественный гимн в исполнении хора
мальчиков.
Вечером приехал с письмами гонец из Моравии. Там дело шло полным ходом:
школы работали, в деньгах нужды не было. Чуть-чуть неприятными были только
два письма: от Горазда и Климента (тех самых, первых, учеников). Горазд
жаловался на Климента, Наума и Ангелария, что они затеяли выдумать еще
какие-то буквы!
А Климент в своем письме успокаивал: мол, ничего страшного, чего он
(Горазд) кляузничает? Делаем мы это, мол, просто так, для себя, никого не
учим... И даже объяснял, что за буквы они придумали.
Константин, посмотрев на эти буквы, скривился: -- Никакой фантазии! Ну
посмотри, -- позвал он Мефодия, -- ведь сразу видно, что простые такие
ребята, ну разве так... тупо... можно делать?.. -- он грустно отдал Мефодию
письмо. -- Тоже мне -- славянские Ульфилы...
Климент предлагал просто использовать греческие буквы и только для тех
звуков, которых у греков как бы не было -- придумал несколько новых значков.
Да и те -- слепил из греческих или вообще содрал из других языков.
-- И те, которые у меня взял -- тоже спертые! Вот, букву для звука "Ш",
-- показал Константин, -- я и сам в еврейском... гм... позаимствовал. Уже
недавно, правда. Видишь, на "ШИН" похоже... Фу, -- он отбросил письмо.
Мефодий тоже поморщился.
-- ...Ну никакой фантазии! -- обиженно повторил Константин.
-- А вроде такие были толковые мальчики... Напиши, поругай их, что ли,
немножко?
-- Им же тоже хочется прославиться! -- засмеялся Мефодий. -- Вот они и
стараются, как могут...
Константин ничего не ответил, только пожал плечами, закрыл глаза...
-- Ты не болен? -- спросил, наконец, Мефодий.
Константин кивнул: -- Помру, видать, скоро! -- пошутил он.
В тот же вечер, на закате, он в первый раз потерял сознание. Они втроем
-- с Анастасием -- любовались, стоя на высокой площадке Башни Ангела,
раскинувшимся внизу Римом, Анастасий перечислял, показывая пальцем,
возвышающиеся повсюду вокруг купола церквей, говорил их названия. Вдруг
Константин с тихим стоном повалился на пол.
Пришел он в себя только на следующее утро.
-- Ты всю ночь бредил, -- сказал сидевший рядом Мефодий. -- Говорил...
даже напевал... на каком-то тарабарском языке.
-- На каком?
-- На никаком! Похож, вроде бы, на какие-то: немножко на арабский,
немножко на немецкий, на еврейский тоже, даже на славянский, но разобрать
ничего не удается... Как будто бы я эти слова и знаю, но...
Константин слабо улыбнулся: -- Это все сон.
Мефодий удивился.
-- Сон! -- повторил Константин. -- Мне уже очень давно снится один и
тот же сон. В первый раз приснился еще в Константинополе. Помнишь, когда ты
приперся ко мне среди ночи, а я спросил: "Если приснилась телега, то это к
чему?"
-- Конечно помню! Я ответил...
-- Так вот тогда мне в первый раз это и приснилось. А теперь вот, уже,
наверное, месяц -- каждую ночь...
И Константин рассказал свой сон -- все, что смог выяснить за эти годы:
сколько тысяч телег прокатилось, как часто опять проезжали знакомые телеги
(одну, запряженную приметным быком с белыми ушами и белой кисточкой на
хвосте, Константин видел три раза, правда, каждый раз с новым погонщиком).
-- ...А говорят они все на том языке, который я уже давно пытаюсь
понять и который ты сегодня ночью услышал, когда я бредил, -- закончил
Константин.
-- А что ты говорил?.. -- спросил Мефодий.
-- Я за ними пытался повторять, -- Константин чуть не заплакал. -- Я
совсем чуть-чуть, совсем-совсем чуть-чуть не могу вспомнить! Я знаю, но
забыл!.. Я все эти слова знаю! Точно знаю. Но почему-то забыл!..
-- А куда они эти камни везут? -- спросил Мефодий.
-- Куда?.. -- удивленно переспросил Константин. -- А ведь
действительно, давно пора узнать. Обязательно в следующий раз узнаю. Если до
этого не умру...
Он опять устало закрыл глаза. Потом, взяв Мефодия за руку, улыбнулся и
тихо спросил: -- Хоть сейчас, что ли, в монахи постричься, а, Мефодий? Давно
ведь уже хотел...
Через три дня, перед рассветом (став уже, в монашестве, Кириллом),
Константин попросил срочно привести к нему брата:
-- Доброе утро, Кирилл! -- улыбнулся, войдя, Мефодий.
-- Здорово, Мефодий! -- улыбнулся тот в ответ; за эти три дня он сильно
похудел и совсем ослабел -- не мог теперь даже приподнять головы.
Мефодий принес с собой новые письма из Моравии. Появилось следующее,
четвертое, поколение учеников; Горазд не поленился посчитать, получалось,
что писать и читать за все время научилось уже более пятисот человек! И
почти у каждого из них уже были свои ученики.
Кирилл улыбнулся: -- Прижились-таки, похоже, мои закорючки! Пятьсот...
Если каждый научит еще пятерых -- две с половиной тысячи получится. Еще
через годик -- двенадцать с половиной тысяч... Уже лет через пять некого
будет учить! Представляешь -- туча народа сидит и мои закорючки рисует,
рисует... Как, говоришь, их выдумали называть? "Глаголицей"? -- он
засмеялся. -- Хорошо хоть не "письмицей" какой-нибудь...
-- Знал бы ты, как твой любимый Климент свои новые буквы назвал. Те,
которые как греческие. С перепугу, наверное. Почуял, что они тебе не
понравится...
-- Как?
-- В честь тебя -- "константиницей" -- торжественно произнес Мефодий.
Кирилл чуть не умер от смеха раньше срока.
Переведя наконец дух, он посмотрел на Мефодия: -- Я тебя зачем
позвал-то...
Выглядел Константин теперь совсем плохо -- похудел, осунулся. Мефодий
сказал ему об этом, Кирилл улыбнулся: -- Да я и сам чувствую! Что уж тут
поделаешь. Устал. Три дня за ними шел.
-- Что?..
-- За телегами, говорю, шел. Выяснил я куда они кирпичи везут. Ни за
что не поверишь.
Мефодий молчал.
-- Два дня брел за ними по обочине -- ровным счетом ничего. А потом
вдалеке показалось... Еще целый день шел, пока понял что это за громадина.
Обычная башня, кирпичная. Только очень высокая. Очень! Почти до самого
неба... -- Кирилл улыбнулся, глядя на вздрогнувшего Мефодия, потом сказал:
-- Ну, прощай... Мне обратно пора. Вот язык пойму -- еще чуть-чуть и пойму!
обязательно! я уже почти вспомнил! -- и тогда... А если... Я им дорогу
загорожу, вся стройка тогда остановится... -- он говорил все тише,
невнятнее.
Вошел Анастасий. Он испуганно посмотрел на Кирилла -- неподвижного,
лишь почти беззвучно шевелящего губами, заметил, как он, с трудом двигая
пальцем, чертит что-то на покрывале.
-- Бредит, -- тихо объяснил Мефодий. Он заплакал.
Потом вскрикнул вдруг: -- Бычки!.. -- Испуганно взглянул на замершего
Кирилла. -- Его же бычки задавят! Кирилл! -- он затряс его за плечи. --
Кирилл!!!
Но, похоже, было уже поздно. И что там на самом деле произошло -- так
никто и не узнал. И до сих пор никто не знает.
Зато отпевали Кирилла очень торжественно, с подобающими для человека,
нашедшего мощи святого Климента, почестями.
С хором мальчиков из базилики Святого Петра.
Наум засмеялся: -- Нет, -- сказал он. -- Меня Наумом зовут!
-- Повторяю, -- грозно сказал Константин. -- Теперь твое имя будет
таким!.. -- он опять вывел на доске те же знаки и торжественно произнес: --
Н-А-У-М !.. -- мальчик не выдержал его холодного, торжественного взгляда и
опустил глаза.
-- Твое имя?.. -- спросил Константин у следующего.
Сидящий в углу Мефодий, закрыв лицо руками, тихо смеялся.
Через полгода каждый из этих мальчиков уже свободно читал с листа "Отче
наш...". Вместо "Pater noster...", как приходилось до этого.
А еще через долгих четыре года, когда научились писать и уже сами
пробовали учить этому других ученики тех первых пяти мальчиков, Мефодий
сказал вдруг жалобно Константину (дело было во дворе новой церкви, которую
Мефодий только что освятил):
-- Слушай! Не могу я так больше! Руки опускаются. Давай, что ли, в Рим
поедем?.. Отвезем твой мешок с костями. Потому, что уже измотали меня эти
склоки. Я, кажется, начинаю Фотия понимать...
Все было очень просто: "Отче наш..." вместо "Pater noster..." стало в
последнее время многих вокруг раздражать. Жалобы, как недавно выяснилось,
шли теперь в Рим почти каждый месяц...
-- Опять?!.. -- возмутился Константин. Случившегося только что на
крыльце церкви мерзкого скандала, устроенного каким-то случайно попавшим на
сегодняшнюю службу проезжим итальянцем, он не видел, отходил по малой нужде.
-- Кто? Вот этот старый хрен?.. -- Константин показал кулак удалявшемуся
старичку.
Мефодий грустно кивнул: -- Пообещал -- правильно! -- написать в Рим...
Лично папе. Опять. Ябеда. Слюнтяй!
-- Знаешь, а ведь поедем! -- Константин встал. -- Я им там устрою...
Пойдем, и мы наконец напишем! Прямо сейчас.
Шагая по комнате он еще продолжал возмущаться: -- Сами же облопухались,
а теперь шумят... Вон, Ульфила германцам буквы сделал? Сделал. И никто с тех
пор не возмущается. А сейчас -- опоздали. Так нечего и кричать.
-- Но и буквы у них -- считай латинские, и службы остались на латыни. А
тут -- они же ничегошеньки не понимают. Ты им сразу: вместо "Dominus
vobiscum" -- какое-то "Господи помилуй"! Скандал!..
-- Так ведь так лучше!
-- Не, ну с этим никто не спорит...
-- Вот и пиши! "Проезжая через Херсонес..." Нет, стой. Начнем
торжественнее. "Его преосвятейшеству папе Николаю I. Девять лет назад,
выполняя поручение патриарха Фотия, я возглавил миссию, направленную
константинопольским престолом в Хазарский каганат. По пути к хазарам мне
довелось побывать в городе Херсонесе, где с Божьей помощью, обнаружены были
мною мощи ученика святого Петра, четвертого архиепископа римского святого
Климента, сосланного, как известно, в Таврию в сотом году от рождества
Христова и мученически принявшего смерть в водах Черного моря. Теперь,
спустя восемь веков, волею Господней, мощи святого великомученика Климента,
автора знаменитых "Посланий к девственницам", вновь обретены!.." --
Константин вдруг остановился, рассеянно замолчал. -- Вот только куда я их
сунул? Кажется, в том сундуке, где книги...
Мефодий опять тихо смеялся, склонившись над пергаментом.
Папа Николай I до их приезда в Рим не дожил -- о его смерти Константин
и Мефодий узнали по дороге, ожидая корабля в Дубровнике.
Но папа Адриан II, преемник Николая, тоже оценил подарок по
достоинству. Уже в дне пути от Рима Константина и Мефодия встречала
торжественная делегация: красивый зеленый холм, на который, вывернув из-за
небольшой рощицы, стала взбираться дорога, сверкал издалека пестрой россыпью
раззолоченных одежд духовенства. Ближе к Риму процессия вошла в плотную
толпу горожан. Солдаты с трудом сдерживали натиск всех, ктопытался хотя бы
коснуться золотых носилок, на которых лежали, покрытые расшитым драгоценными
камнями покрывалом, чудотворные мощи святого Климента.
За носилками следовал паланкин папы, потом -- рядом -- два паланкина
поменьше, в которых сидели Константин и Мефодий, следом, пешком,
архиепископы, епископы...
-- Ты хоть что-нибудь похожее мог себе представить? -- весело спросил
Константин, оглядываясь по сторонам.
-- Нет, приятно, а? Хотя даже как-то неловко немножко...
-- Отчего неловко? Мы же их не обманываем -- они и вправду из
Херсонеса...
Какой-то увечный, проскочив между солдатами, с криком вцепился в край
покрывала, чуть не опрокинув носилки с мощами, упал сам, забился в
судорогах. Его отволокли за оцепление.
Процессия приближалась к базилике святого Петра. Константин и Мефодий
оглядывались по сторонам, рассматривали церкви, дворцы, вглядывались в лица
людей.
-- Хороший город! -- сказал Мефодий. -- И люди самые обычные. Тоже
хорошие.
-- И я тем более не пойму, зачем наш Фотий их прошлого папу низложил?
-- это произошло почти два года назад, но много говорили об этом скандале
еще до сих пор. -- Ты можешь мне это объяснить?
-- Да он, наверное, пошутил. Тем более, что кто ж тут его послушался
бы? Что ты, Фотия, что ли, не знаешь?
-- С юмором у него всегда было неважно, -- покачал головой, улыбаясь
радостно кричащим людям, Константин.
Аббат Анастасий, у которого они остановились -- тоже, как когда-то и
Константин при Фотии, библиотекарь -- уже в первый свободный вечер собрал
друзей: послушать в исполнении самого Константина рассказ об обретении мощей
Климента.
Посидели на удивление славно. Глупых вопросов почти никто не задавал.
Эпизод с якорем (привязанным, как было известно, перед смертью к ногам
Климента), который Константин тоже нашел недалеко от костей, окончательно
удовлетворил затесавшихся зануд. Все остальные оказались прелестными людьми!
И вино было отменным: Константин рассказывал вначале о чудаковатом хазарском
Кагане, потом -- о поездке в Сирию и забавной дискуссии с тамошними
мусульманами, о Моравии, о новых буквах.
А Мефодий влез со своей классической, уже десяток раз обкатанной,
байкой о Фотии: так сказать, "кстати о хазарах". Сейчас, когда еще совсем
недавно только о Фотии все в Риме и говорили (ругались папы с патриархами и
раньше -- но в этот раз, похоже, дело, действительно, слишком далеко зашло)
-- успех байки был потрясающим!
Байка заключалась в том, что Фотий -- из хазар. И в качестве
подтверждения этого приводилась фраза императора Михаила. Выслушав однажды
жалобу государственного секретаря на то, что Фотий распространяет учение о
двух душах в человеке (вследствие чего прислуга требует двойной паек),
Михаил, якобы, ужасно развеселился и сказал:
-- Так вот что проповедует эта хазарская рожа!.. -- отсюда и пошло.
-- А он... Фотий... Он, что, и вправду так считает? Что... их две?.. --
испуганно спросил какой-то молоденький монах. -- Я читал, что хазары,
действительно, это говорят... Но Фотий же...
Все захохотали.
-- За слова Михаила -- я ручаюсь, -- сказал Мефодий. -- А остальное,
так сказать, люди рассказали. Нет, конечно, может он и вправду так считает,
я откуда знаю? На эту тему мы с ним, кажется, не говорили. Вот про его
любимое "филиокве" -- сколько угодно. А про две души -- что-то не помню...
-- А вообще-то, он, несомненно, хазар, -- подытожил Константин. -- В
душе, по крайней мере.
Разошлись только глубокой ночью, Константин, усталый, но очень
довольный первым проведенным в Риме днем, уснул, едва коснувшись головой
подушки.
Телеги продолжали катиться.
Этот сон -- один и тот же -- снился Константину вот уже который месяц.
Почти каждую ночь. Попытавшись однажды прикинуть, сколько за это время
мимо него прокатилось телег, Константин испугался.
По утрам, вспоминая сон, он становился мрачным. А со временем
почувствовал, что уже просто болен. Мефодий тоже заметил перемену в
Константине, но пока молчал. Ничего не говорил и сам Константин -- пока было
не до этого.
Приближался ответственнейший богословский диспут. Этакий как бы
экзамен... От него зависело -- продолжатся скандалы в Моравии, или нет.
Константин и Мефодий были уверены в успехе, но, все равно, как и положено
перед экзаменом, немного волновались -- два дня перечитывали, сидя во дворе,
на солнышке, Василия Великого и Григория Богослова.
Экзамен, как и ожидалось, оказался простой формальностью. Римские
богословы, по сравнению с Константинопольскими, были как-то совсем уж
простоваты...
Анастасий, подслушивавший за дверью, крепко обнял вышедших Константина
и Мефодия -- он волновался гораздо больше их. И уже прикупил несколько
кувшинчиков неплохого вина.
Вечером опять собралась приятная компания -- отметили успех. Очень
хорошо посидели.
Ночью, уже под утро, опять приснился сон с телегами. Константин
заинтересовался наконец, что же в них лежит. Оказалось, что там камни. Или,
может быть, даже простые кирпичи -- большие, в каждой телеге помногу. Легче
от этой новости ему не стало.
Утром опять очень болела голова.
С головной болью стоял Константин на службе в базилике святого Петра.
Лучшего подтверждения прочности их теперешнего положения в Моравии нельзя
было и придумать. Папа Адриан лично освятил подаренное ему Константином и
Мефодием евангелие, написанное по-славянски, новыми значками. Он
торжественно водрузил его в алтаре базилики, на специально сделанном по
этому случаю позолоченном столике.
-- Очень мило с его стороны, -- шепнул Константин Мефодию. -- Особенно,
если учесть, что он не знает славянского. И не понимает в книге ни одной
буквочки. Мало ли, что я там понаписал! Может я коран переписывал... Нет,
правда приятно. Значит, действительно доверяет... Славный человек. --
Мефодий кивнул, не поворачивая головы. Константин помолчал, а потом опять
зашептал: -- Я никогда и представить такого не мог... Что мои детские
секретные закорючки -- я же их придумал, чтобы никто понять не мог что
написано! -- и удостоятся вдруг... гм... такой высочайшей почести...
Мефодий сурово покосился на Константина, но не удержался и чуть заметно
ему подмигнул. Последнее слово папы стихло под сводом базилики и тут же,
ниоткуда и отовсюду, со всех сторон, отраженный стенами, витражами,
рассеченный колоннами, зазвучал торжественный гимн в исполнении хора
мальчиков.
Вечером приехал с письмами гонец из Моравии. Там дело шло полным ходом:
школы работали, в деньгах нужды не было. Чуть-чуть неприятными были только
два письма: от Горазда и Климента (тех самых, первых, учеников). Горазд
жаловался на Климента, Наума и Ангелария, что они затеяли выдумать еще
какие-то буквы!
А Климент в своем письме успокаивал: мол, ничего страшного, чего он
(Горазд) кляузничает? Делаем мы это, мол, просто так, для себя, никого не
учим... И даже объяснял, что за буквы они придумали.
Константин, посмотрев на эти буквы, скривился: -- Никакой фантазии! Ну
посмотри, -- позвал он Мефодия, -- ведь сразу видно, что простые такие
ребята, ну разве так... тупо... можно делать?.. -- он грустно отдал Мефодию
письмо. -- Тоже мне -- славянские Ульфилы...
Климент предлагал просто использовать греческие буквы и только для тех
звуков, которых у греков как бы не было -- придумал несколько новых значков.
Да и те -- слепил из греческих или вообще содрал из других языков.
-- И те, которые у меня взял -- тоже спертые! Вот, букву для звука "Ш",
-- показал Константин, -- я и сам в еврейском... гм... позаимствовал. Уже
недавно, правда. Видишь, на "ШИН" похоже... Фу, -- он отбросил письмо.
Мефодий тоже поморщился.
-- ...Ну никакой фантазии! -- обиженно повторил Константин.
-- А вроде такие были толковые мальчики... Напиши, поругай их, что ли,
немножко?
-- Им же тоже хочется прославиться! -- засмеялся Мефодий. -- Вот они и
стараются, как могут...
Константин ничего не ответил, только пожал плечами, закрыл глаза...
-- Ты не болен? -- спросил, наконец, Мефодий.
Константин кивнул: -- Помру, видать, скоро! -- пошутил он.
В тот же вечер, на закате, он в первый раз потерял сознание. Они втроем
-- с Анастасием -- любовались, стоя на высокой площадке Башни Ангела,
раскинувшимся внизу Римом, Анастасий перечислял, показывая пальцем,
возвышающиеся повсюду вокруг купола церквей, говорил их названия. Вдруг
Константин с тихим стоном повалился на пол.
Пришел он в себя только на следующее утро.
-- Ты всю ночь бредил, -- сказал сидевший рядом Мефодий. -- Говорил...
даже напевал... на каком-то тарабарском языке.
-- На каком?
-- На никаком! Похож, вроде бы, на какие-то: немножко на арабский,
немножко на немецкий, на еврейский тоже, даже на славянский, но разобрать
ничего не удается... Как будто бы я эти слова и знаю, но...
Константин слабо улыбнулся: -- Это все сон.
Мефодий удивился.
-- Сон! -- повторил Константин. -- Мне уже очень давно снится один и
тот же сон. В первый раз приснился еще в Константинополе. Помнишь, когда ты
приперся ко мне среди ночи, а я спросил: "Если приснилась телега, то это к
чему?"
-- Конечно помню! Я ответил...
-- Так вот тогда мне в первый раз это и приснилось. А теперь вот, уже,
наверное, месяц -- каждую ночь...
И Константин рассказал свой сон -- все, что смог выяснить за эти годы:
сколько тысяч телег прокатилось, как часто опять проезжали знакомые телеги
(одну, запряженную приметным быком с белыми ушами и белой кисточкой на
хвосте, Константин видел три раза, правда, каждый раз с новым погонщиком).
-- ...А говорят они все на том языке, который я уже давно пытаюсь
понять и который ты сегодня ночью услышал, когда я бредил, -- закончил
Константин.
-- А что ты говорил?.. -- спросил Мефодий.
-- Я за ними пытался повторять, -- Константин чуть не заплакал. -- Я
совсем чуть-чуть, совсем-совсем чуть-чуть не могу вспомнить! Я знаю, но
забыл!.. Я все эти слова знаю! Точно знаю. Но почему-то забыл!..
-- А куда они эти камни везут? -- спросил Мефодий.
-- Куда?.. -- удивленно переспросил Константин. -- А ведь
действительно, давно пора узнать. Обязательно в следующий раз узнаю. Если до
этого не умру...
Он опять устало закрыл глаза. Потом, взяв Мефодия за руку, улыбнулся и
тихо спросил: -- Хоть сейчас, что ли, в монахи постричься, а, Мефодий? Давно
ведь уже хотел...
Через три дня, перед рассветом (став уже, в монашестве, Кириллом),
Константин попросил срочно привести к нему брата:
-- Доброе утро, Кирилл! -- улыбнулся, войдя, Мефодий.
-- Здорово, Мефодий! -- улыбнулся тот в ответ; за эти три дня он сильно
похудел и совсем ослабел -- не мог теперь даже приподнять головы.
Мефодий принес с собой новые письма из Моравии. Появилось следующее,
четвертое, поколение учеников; Горазд не поленился посчитать, получалось,
что писать и читать за все время научилось уже более пятисот человек! И
почти у каждого из них уже были свои ученики.
Кирилл улыбнулся: -- Прижились-таки, похоже, мои закорючки! Пятьсот...
Если каждый научит еще пятерых -- две с половиной тысячи получится. Еще
через годик -- двенадцать с половиной тысяч... Уже лет через пять некого
будет учить! Представляешь -- туча народа сидит и мои закорючки рисует,
рисует... Как, говоришь, их выдумали называть? "Глаголицей"? -- он
засмеялся. -- Хорошо хоть не "письмицей" какой-нибудь...
-- Знал бы ты, как твой любимый Климент свои новые буквы назвал. Те,
которые как греческие. С перепугу, наверное. Почуял, что они тебе не
понравится...
-- Как?
-- В честь тебя -- "константиницей" -- торжественно произнес Мефодий.
Кирилл чуть не умер от смеха раньше срока.
Переведя наконец дух, он посмотрел на Мефодия: -- Я тебя зачем
позвал-то...
Выглядел Константин теперь совсем плохо -- похудел, осунулся. Мефодий
сказал ему об этом, Кирилл улыбнулся: -- Да я и сам чувствую! Что уж тут
поделаешь. Устал. Три дня за ними шел.
-- Что?..
-- За телегами, говорю, шел. Выяснил я куда они кирпичи везут. Ни за
что не поверишь.
Мефодий молчал.
-- Два дня брел за ними по обочине -- ровным счетом ничего. А потом
вдалеке показалось... Еще целый день шел, пока понял что это за громадина.
Обычная башня, кирпичная. Только очень высокая. Очень! Почти до самого
неба... -- Кирилл улыбнулся, глядя на вздрогнувшего Мефодия, потом сказал:
-- Ну, прощай... Мне обратно пора. Вот язык пойму -- еще чуть-чуть и пойму!
обязательно! я уже почти вспомнил! -- и тогда... А если... Я им дорогу
загорожу, вся стройка тогда остановится... -- он говорил все тише,
невнятнее.
Вошел Анастасий. Он испуганно посмотрел на Кирилла -- неподвижного,
лишь почти беззвучно шевелящего губами, заметил, как он, с трудом двигая
пальцем, чертит что-то на покрывале.
-- Бредит, -- тихо объяснил Мефодий. Он заплакал.
Потом вскрикнул вдруг: -- Бычки!.. -- Испуганно взглянул на замершего
Кирилла. -- Его же бычки задавят! Кирилл! -- он затряс его за плечи. --
Кирилл!!!
Но, похоже, было уже поздно. И что там на самом деле произошло -- так
никто и не узнал. И до сих пор никто не знает.
Зато отпевали Кирилла очень торжественно, с подобающими для человека,
нашедшего мощи святого Климента, почестями.
С хором мальчиков из базилики Святого Петра.
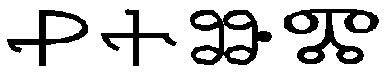 Наум засмеялся: -- Нет, -- сказал он. -- Меня Наумом зовут!
-- Повторяю, -- грозно сказал Константин. -- Теперь твое имя будет
таким!.. -- он опять вывел на доске те же знаки и торжественно произнес: --
Н-А-У-М !.. -- мальчик не выдержал его холодного, торжественного взгляда и
опустил глаза.
-- Твое имя?.. -- спросил Константин у следующего.
Сидящий в углу Мефодий, закрыв лицо руками, тихо смеялся.
Через полгода каждый из этих мальчиков уже свободно читал с листа "Отче
наш...". Вместо "Pater noster...", как приходилось до этого.
А еще через долгих четыре года, когда научились писать и уже сами
пробовали учить этому других ученики тех первых пяти мальчиков, Мефодий
сказал вдруг жалобно Константину (дело было во дворе новой церкви, которую
Мефодий только что освятил):
-- Слушай! Не могу я так больше! Руки опускаются. Давай, что ли, в Рим
поедем?.. Отвезем твой мешок с костями. Потому, что уже измотали меня эти
склоки. Я, кажется, начинаю Фотия понимать...
Все было очень просто: "Отче наш..." вместо "Pater noster..." стало в
последнее время многих вокруг раздражать. Жалобы, как недавно выяснилось,
шли теперь в Рим почти каждый месяц...
-- Опять?!.. -- возмутился Константин. Случившегося только что на
крыльце церкви мерзкого скандала, устроенного каким-то случайно попавшим на
сегодняшнюю службу проезжим итальянцем, он не видел, отходил по малой нужде.
-- Кто? Вот этот старый хрен?.. -- Константин показал кулак удалявшемуся
старичку.
Мефодий грустно кивнул: -- Пообещал -- правильно! -- написать в Рим...
Лично папе. Опять. Ябеда. Слюнтяй!
-- Знаешь, а ведь поедем! -- Константин встал. -- Я им там устрою...
Пойдем, и мы наконец напишем! Прямо сейчас.
Шагая по комнате он еще продолжал возмущаться: -- Сами же облопухались,
а теперь шумят... Вон, Ульфила германцам буквы сделал? Сделал. И никто с тех
пор не возмущается. А сейчас -- опоздали. Так нечего и кричать.
-- Но и буквы у них -- считай латинские, и службы остались на латыни. А
тут -- они же ничегошеньки не понимают. Ты им сразу: вместо "Dominus
vobiscum" -- какое-то "Господи помилуй"! Скандал!..
-- Так ведь так лучше!
-- Не, ну с этим никто не спорит...
-- Вот и пиши! "Проезжая через Херсонес..." Нет, стой. Начнем
торжественнее. "Его преосвятейшеству папе Николаю I. Девять лет назад,
выполняя поручение патриарха Фотия, я возглавил миссию, направленную
константинопольским престолом в Хазарский каганат. По пути к хазарам мне
довелось побывать в городе Херсонесе, где с Божьей помощью, обнаружены были
мною мощи ученика святого Петра, четвертого архиепископа римского святого
Климента, сосланного, как известно, в Таврию в сотом году от рождества
Христова и мученически принявшего смерть в водах Черного моря. Теперь,
спустя восемь веков, волею Господней, мощи святого великомученика Климента,
автора знаменитых "Посланий к девственницам", вновь обретены!.." --
Константин вдруг остановился, рассеянно замолчал. -- Вот только куда я их
сунул? Кажется, в том сундуке, где книги...
Мефодий опять тихо смеялся, склонившись над пергаментом.
Папа Николай I до их приезда в Рим не дожил -- о его смерти Константин
и Мефодий узнали по дороге, ожидая корабля в Дубровнике.
Но папа Адриан II, преемник Николая, тоже оценил подарок по
достоинству. Уже в дне пути от Рима Константина и Мефодия встречала
торжественная делегация: красивый зеленый холм, на который, вывернув из-за
небольшой рощицы, стала взбираться дорога, сверкал издалека пестрой россыпью
раззолоченных одежд духовенства. Ближе к Риму процессия вошла в плотную
толпу горожан. Солдаты с трудом сдерживали натиск всех, ктопытался хотя бы
коснуться золотых носилок, на которых лежали, покрытые расшитым драгоценными
камнями покрывалом, чудотворные мощи святого Климента.
За носилками следовал паланкин папы, потом -- рядом -- два паланкина
поменьше, в которых сидели Константин и Мефодий, следом, пешком,
архиепископы, епископы...
-- Ты хоть что-нибудь похожее мог себе представить? -- весело спросил
Константин, оглядываясь по сторонам.
-- Нет, приятно, а? Хотя даже как-то неловко немножко...
-- Отчего неловко? Мы же их не обманываем -- они и вправду из
Херсонеса...
Какой-то увечный, проскочив между солдатами, с криком вцепился в край
покрывала, чуть не опрокинув носилки с мощами, упал сам, забился в
судорогах. Его отволокли за оцепление.
Процессия приближалась к базилике святого Петра. Константин и Мефодий
оглядывались по сторонам, рассматривали церкви, дворцы, вглядывались в лица
людей.
-- Хороший город! -- сказал Мефодий. -- И люди самые обычные. Тоже
хорошие.
-- И я тем более не пойму, зачем наш Фотий их прошлого папу низложил?
-- это произошло почти два года назад, но много говорили об этом скандале
еще до сих пор. -- Ты можешь мне это объяснить?
-- Да он, наверное, пошутил. Тем более, что кто ж тут его послушался
бы? Что ты, Фотия, что ли, не знаешь?
-- С юмором у него всегда было неважно, -- покачал головой, улыбаясь
радостно кричащим людям, Константин.
Аббат Анастасий, у которого они остановились -- тоже, как когда-то и
Константин при Фотии, библиотекарь -- уже в первый свободный вечер собрал
друзей: послушать в исполнении самого Константина рассказ об обретении мощей
Климента.
Посидели на удивление славно. Глупых вопросов почти никто не задавал.
Эпизод с якорем (привязанным, как было известно, перед смертью к ногам
Климента), который Константин тоже нашел недалеко от костей, окончательно
удовлетворил затесавшихся зануд. Все остальные оказались прелестными людьми!
И вино было отменным: Константин рассказывал вначале о чудаковатом хазарском
Кагане, потом -- о поездке в Сирию и забавной дискуссии с тамошними
мусульманами, о Моравии, о новых буквах.
А Мефодий влез со своей классической, уже десяток раз обкатанной,
байкой о Фотии: так сказать, "кстати о хазарах". Сейчас, когда еще совсем
недавно только о Фотии все в Риме и говорили (ругались папы с патриархами и
раньше -- но в этот раз, похоже, дело, действительно, слишком далеко зашло)
-- успех байки был потрясающим!
Байка заключалась в том, что Фотий -- из хазар. И в качестве
подтверждения этого приводилась фраза императора Михаила. Выслушав однажды
жалобу государственного секретаря на то, что Фотий распространяет учение о
двух душах в человеке (вследствие чего прислуга требует двойной паек),
Михаил, якобы, ужасно развеселился и сказал:
-- Так вот что проповедует эта хазарская рожа!.. -- отсюда и пошло.
-- А он... Фотий... Он, что, и вправду так считает? Что... их две?.. --
испуганно спросил какой-то молоденький монах. -- Я читал, что хазары,
действительно, это говорят... Но Фотий же...
Все захохотали.
-- За слова Михаила -- я ручаюсь, -- сказал Мефодий. -- А остальное,
так сказать, люди рассказали. Нет, конечно, может он и вправду так считает,
я откуда знаю? На эту тему мы с ним, кажется, не говорили. Вот про его
любимое "филиокве" -- сколько угодно. А про две души -- что-то не помню...
-- А вообще-то, он, несомненно, хазар, -- подытожил Константин. -- В
душе, по крайней мере.
Разошлись только глубокой ночью, Константин, усталый, но очень
довольный первым проведенным в Риме днем, уснул, едва коснувшись головой
подушки.
Телеги продолжали катиться.
Этот сон -- один и тот же -- снился Константину вот уже который месяц.
Почти каждую ночь. Попытавшись однажды прикинуть, сколько за это время
мимо него прокатилось телег, Константин испугался.
По утрам, вспоминая сон, он становился мрачным. А со временем
почувствовал, что уже просто болен. Мефодий тоже заметил перемену в
Константине, но пока молчал. Ничего не говорил и сам Константин -- пока было
не до этого.
Приближался ответственнейший богословский диспут. Этакий как бы
экзамен... От него зависело -- продолжатся скандалы в Моравии, или нет.
Константин и Мефодий были уверены в успехе, но, все равно, как и положено
перед экзаменом, немного волновались -- два дня перечитывали, сидя во дворе,
на солнышке, Василия Великого и Григория Богослова.
Экзамен, как и ожидалось, оказался простой формальностью. Римские
богословы, по сравнению с Константинопольскими, были как-то совсем уж
простоваты...
Анастасий, подслушивавший за дверью, крепко обнял вышедших Константина
и Мефодия -- он волновался гораздо больше их. И уже прикупил несколько
кувшинчиков неплохого вина.
Вечером опять собралась приятная компания -- отметили успех. Очень
хорошо посидели.
Ночью, уже под утро, опять приснился сон с телегами. Константин
заинтересовался наконец, что же в них лежит. Оказалось, что там камни. Или,
может быть, даже простые кирпичи -- большие, в каждой телеге помногу. Легче
от этой новости ему не стало.
Утром опять очень болела голова.
С головной болью стоял Константин на службе в базилике святого Петра.
Лучшего подтверждения прочности их теперешнего положения в Моравии нельзя
было и придумать. Папа Адриан лично освятил подаренное ему Константином и
Мефодием евангелие, написанное по-славянски, новыми значками. Он
торжественно водрузил его в алтаре базилики, на специально сделанном по
этому случаю позолоченном столике.
-- Очень мило с его стороны, -- шепнул Константин Мефодию. -- Особенно,
если учесть, что он не знает славянского. И не понимает в книге ни одной
буквочки. Мало ли, что я там понаписал! Может я коран переписывал... Нет,
правда приятно. Значит, действительно доверяет... Славный человек. --
Мефодий кивнул, не поворачивая головы. Константин помолчал, а потом опять
зашептал: -- Я никогда и представить такого не мог... Что мои детские
секретные закорючки -- я же их придумал, чтобы никто понять не мог что
написано! -- и удостоятся вдруг... гм... такой высочайшей почести...
Мефодий сурово покосился на Константина, но не удержался и чуть заметно
ему подмигнул. Последнее слово папы стихло под сводом базилики и тут же,
ниоткуда и отовсюду, со всех сторон, отраженный стенами, витражами,
рассеченный колоннами, зазвучал торжественный гимн в исполнении хора
мальчиков.
Вечером приехал с письмами гонец из Моравии. Там дело шло полным ходом:
школы работали, в деньгах нужды не было. Чуть-чуть неприятными были только
два письма: от Горазда и Климента (тех самых, первых, учеников). Горазд
жаловался на Климента, Наума и Ангелария, что они затеяли выдумать еще
какие-то буквы!
А Климент в своем письме успокаивал: мол, ничего страшного, чего он
(Горазд) кляузничает? Делаем мы это, мол, просто так, для себя, никого не
учим... И даже объяснял, что за буквы они придумали.
Константин, посмотрев на эти буквы, скривился: -- Никакой фантазии! Ну
посмотри, -- позвал он Мефодия, -- ведь сразу видно, что простые такие
ребята, ну разве так... тупо... можно делать?.. -- он грустно отдал Мефодию
письмо. -- Тоже мне -- славянские Ульфилы...
Климент предлагал просто использовать греческие буквы и только для тех
звуков, которых у греков как бы не было -- придумал несколько новых значков.
Да и те -- слепил из греческих или вообще содрал из других языков.
-- И те, которые у меня взял -- тоже спертые! Вот, букву для звука "Ш",
-- показал Константин, -- я и сам в еврейском... гм... позаимствовал. Уже
недавно, правда. Видишь, на "ШИН" похоже... Фу, -- он отбросил письмо.
Мефодий тоже поморщился.
-- ...Ну никакой фантазии! -- обиженно повторил Константин.
-- А вроде такие были толковые мальчики... Напиши, поругай их, что ли,
немножко?
-- Им же тоже хочется прославиться! -- засмеялся Мефодий. -- Вот они и
стараются, как могут...
Константин ничего не ответил, только пожал плечами, закрыл глаза...
-- Ты не болен? -- спросил, наконец, Мефодий.
Константин кивнул: -- Помру, видать, скоро! -- пошутил он.
В тот же вечер, на закате, он в первый раз потерял сознание. Они втроем
-- с Анастасием -- любовались, стоя на высокой площадке Башни Ангела,
раскинувшимся внизу Римом, Анастасий перечислял, показывая пальцем,
возвышающиеся повсюду вокруг купола церквей, говорил их названия. Вдруг
Константин с тихим стоном повалился на пол.
Пришел он в себя только на следующее утро.
-- Ты всю ночь бредил, -- сказал сидевший рядом Мефодий. -- Говорил...
даже напевал... на каком-то тарабарском языке.
-- На каком?
-- На никаком! Похож, вроде бы, на какие-то: немножко на арабский,
немножко на немецкий, на еврейский тоже, даже на славянский, но разобрать
ничего не удается... Как будто бы я эти слова и знаю, но...
Константин слабо улыбнулся: -- Это все сон.
Мефодий удивился.
-- Сон! -- повторил Константин. -- Мне уже очень давно снится один и
тот же сон. В первый раз приснился еще в Константинополе. Помнишь, когда ты
приперся ко мне среди ночи, а я спросил: "Если приснилась телега, то это к
чему?"
-- Конечно помню! Я ответил...
-- Так вот тогда мне в первый раз это и приснилось. А теперь вот, уже,
наверное, месяц -- каждую ночь...
И Константин рассказал свой сон -- все, что смог выяснить за эти годы:
сколько тысяч телег прокатилось, как часто опять проезжали знакомые телеги
(одну, запряженную приметным быком с белыми ушами и белой кисточкой на
хвосте, Константин видел три раза, правда, каждый раз с новым погонщиком).
-- ...А говорят они все на том языке, который я уже давно пытаюсь
понять и который ты сегодня ночью услышал, когда я бредил, -- закончил
Константин.
-- А что ты говорил?.. -- спросил Мефодий.
-- Я за ними пытался повторять, -- Константин чуть не заплакал. -- Я
совсем чуть-чуть, совсем-совсем чуть-чуть не могу вспомнить! Я знаю, но
забыл!.. Я все эти слова знаю! Точно знаю. Но почему-то забыл!..
-- А куда они эти камни везут? -- спросил Мефодий.
-- Куда?.. -- удивленно переспросил Константин. -- А ведь
действительно, давно пора узнать. Обязательно в следующий раз узнаю. Если до
этого не умру...
Он опять устало закрыл глаза. Потом, взяв Мефодия за руку, улыбнулся и
тихо спросил: -- Хоть сейчас, что ли, в монахи постричься, а, Мефодий? Давно
ведь уже хотел...
Через три дня, перед рассветом (став уже, в монашестве, Кириллом),
Константин попросил срочно привести к нему брата:
-- Доброе утро, Кирилл! -- улыбнулся, войдя, Мефодий.
-- Здорово, Мефодий! -- улыбнулся тот в ответ; за эти три дня он сильно
похудел и совсем ослабел -- не мог теперь даже приподнять головы.
Мефодий принес с собой новые письма из Моравии. Появилось следующее,
четвертое, поколение учеников; Горазд не поленился посчитать, получалось,
что писать и читать за все время научилось уже более пятисот человек! И
почти у каждого из них уже были свои ученики.
Кирилл улыбнулся: -- Прижились-таки, похоже, мои закорючки! Пятьсот...
Если каждый научит еще пятерых -- две с половиной тысячи получится. Еще
через годик -- двенадцать с половиной тысяч... Уже лет через пять некого
будет учить! Представляешь -- туча народа сидит и мои закорючки рисует,
рисует... Как, говоришь, их выдумали называть? "Глаголицей"? -- он
засмеялся. -- Хорошо хоть не "письмицей" какой-нибудь...
-- Знал бы ты, как твой любимый Климент свои новые буквы назвал. Те,
которые как греческие. С перепугу, наверное. Почуял, что они тебе не
понравится...
-- Как?
-- В честь тебя -- "константиницей" -- торжественно произнес Мефодий.
Кирилл чуть не умер от смеха раньше срока.
Переведя наконец дух, он посмотрел на Мефодия: -- Я тебя зачем
позвал-то...
Выглядел Константин теперь совсем плохо -- похудел, осунулся. Мефодий
сказал ему об этом, Кирилл улыбнулся: -- Да я и сам чувствую! Что уж тут
поделаешь. Устал. Три дня за ними шел.
-- Что?..
-- За телегами, говорю, шел. Выяснил я куда они кирпичи везут. Ни за
что не поверишь.
Мефодий молчал.
-- Два дня брел за ними по обочине -- ровным счетом ничего. А потом
вдалеке показалось... Еще целый день шел, пока понял что это за громадина.
Обычная башня, кирпичная. Только очень высокая. Очень! Почти до самого
неба... -- Кирилл улыбнулся, глядя на вздрогнувшего Мефодия, потом сказал:
-- Ну, прощай... Мне обратно пора. Вот язык пойму -- еще чуть-чуть и пойму!
обязательно! я уже почти вспомнил! -- и тогда... А если... Я им дорогу
загорожу, вся стройка тогда остановится... -- он говорил все тише,
невнятнее.
Вошел Анастасий. Он испуганно посмотрел на Кирилла -- неподвижного,
лишь почти беззвучно шевелящего губами, заметил, как он, с трудом двигая
пальцем, чертит что-то на покрывале.
-- Бредит, -- тихо объяснил Мефодий. Он заплакал.
Потом вскрикнул вдруг: -- Бычки!.. -- Испуганно взглянул на замершего
Кирилла. -- Его же бычки задавят! Кирилл! -- он затряс его за плечи. --
Кирилл!!!
Но, похоже, было уже поздно. И что там на самом деле произошло -- так
никто и не узнал. И до сих пор никто не знает.
Зато отпевали Кирилла очень торжественно, с подобающими для человека,
нашедшего мощи святого Климента, почестями.
С хором мальчиков из базилики Святого Петра.
Наум засмеялся: -- Нет, -- сказал он. -- Меня Наумом зовут!
-- Повторяю, -- грозно сказал Константин. -- Теперь твое имя будет
таким!.. -- он опять вывел на доске те же знаки и торжественно произнес: --
Н-А-У-М !.. -- мальчик не выдержал его холодного, торжественного взгляда и
опустил глаза.
-- Твое имя?.. -- спросил Константин у следующего.
Сидящий в углу Мефодий, закрыв лицо руками, тихо смеялся.
Через полгода каждый из этих мальчиков уже свободно читал с листа "Отче
наш...". Вместо "Pater noster...", как приходилось до этого.
А еще через долгих четыре года, когда научились писать и уже сами
пробовали учить этому других ученики тех первых пяти мальчиков, Мефодий
сказал вдруг жалобно Константину (дело было во дворе новой церкви, которую
Мефодий только что освятил):
-- Слушай! Не могу я так больше! Руки опускаются. Давай, что ли, в Рим
поедем?.. Отвезем твой мешок с костями. Потому, что уже измотали меня эти
склоки. Я, кажется, начинаю Фотия понимать...
Все было очень просто: "Отче наш..." вместо "Pater noster..." стало в
последнее время многих вокруг раздражать. Жалобы, как недавно выяснилось,
шли теперь в Рим почти каждый месяц...
-- Опять?!.. -- возмутился Константин. Случившегося только что на
крыльце церкви мерзкого скандала, устроенного каким-то случайно попавшим на
сегодняшнюю службу проезжим итальянцем, он не видел, отходил по малой нужде.
-- Кто? Вот этот старый хрен?.. -- Константин показал кулак удалявшемуся
старичку.
Мефодий грустно кивнул: -- Пообещал -- правильно! -- написать в Рим...
Лично папе. Опять. Ябеда. Слюнтяй!
-- Знаешь, а ведь поедем! -- Константин встал. -- Я им там устрою...
Пойдем, и мы наконец напишем! Прямо сейчас.
Шагая по комнате он еще продолжал возмущаться: -- Сами же облопухались,
а теперь шумят... Вон, Ульфила германцам буквы сделал? Сделал. И никто с тех
пор не возмущается. А сейчас -- опоздали. Так нечего и кричать.
-- Но и буквы у них -- считай латинские, и службы остались на латыни. А
тут -- они же ничегошеньки не понимают. Ты им сразу: вместо "Dominus
vobiscum" -- какое-то "Господи помилуй"! Скандал!..
-- Так ведь так лучше!
-- Не, ну с этим никто не спорит...
-- Вот и пиши! "Проезжая через Херсонес..." Нет, стой. Начнем
торжественнее. "Его преосвятейшеству папе Николаю I. Девять лет назад,
выполняя поручение патриарха Фотия, я возглавил миссию, направленную
константинопольским престолом в Хазарский каганат. По пути к хазарам мне
довелось побывать в городе Херсонесе, где с Божьей помощью, обнаружены были
мною мощи ученика святого Петра, четвертого архиепископа римского святого
Климента, сосланного, как известно, в Таврию в сотом году от рождества
Христова и мученически принявшего смерть в водах Черного моря. Теперь,
спустя восемь веков, волею Господней, мощи святого великомученика Климента,
автора знаменитых "Посланий к девственницам", вновь обретены!.." --
Константин вдруг остановился, рассеянно замолчал. -- Вот только куда я их
сунул? Кажется, в том сундуке, где книги...
Мефодий опять тихо смеялся, склонившись над пергаментом.
Папа Николай I до их приезда в Рим не дожил -- о его смерти Константин
и Мефодий узнали по дороге, ожидая корабля в Дубровнике.
Но папа Адриан II, преемник Николая, тоже оценил подарок по
достоинству. Уже в дне пути от Рима Константина и Мефодия встречала
торжественная делегация: красивый зеленый холм, на который, вывернув из-за
небольшой рощицы, стала взбираться дорога, сверкал издалека пестрой россыпью
раззолоченных одежд духовенства. Ближе к Риму процессия вошла в плотную
толпу горожан. Солдаты с трудом сдерживали натиск всех, ктопытался хотя бы
коснуться золотых носилок, на которых лежали, покрытые расшитым драгоценными
камнями покрывалом, чудотворные мощи святого Климента.
За носилками следовал паланкин папы, потом -- рядом -- два паланкина
поменьше, в которых сидели Константин и Мефодий, следом, пешком,
архиепископы, епископы...
-- Ты хоть что-нибудь похожее мог себе представить? -- весело спросил
Константин, оглядываясь по сторонам.
-- Нет, приятно, а? Хотя даже как-то неловко немножко...
-- Отчего неловко? Мы же их не обманываем -- они и вправду из
Херсонеса...
Какой-то увечный, проскочив между солдатами, с криком вцепился в край
покрывала, чуть не опрокинув носилки с мощами, упал сам, забился в
судорогах. Его отволокли за оцепление.
Процессия приближалась к базилике святого Петра. Константин и Мефодий
оглядывались по сторонам, рассматривали церкви, дворцы, вглядывались в лица
людей.
-- Хороший город! -- сказал Мефодий. -- И люди самые обычные. Тоже
хорошие.
-- И я тем более не пойму, зачем наш Фотий их прошлого папу низложил?
-- это произошло почти два года назад, но много говорили об этом скандале
еще до сих пор. -- Ты можешь мне это объяснить?
-- Да он, наверное, пошутил. Тем более, что кто ж тут его послушался
бы? Что ты, Фотия, что ли, не знаешь?
-- С юмором у него всегда было неважно, -- покачал головой, улыбаясь
радостно кричащим людям, Константин.
Аббат Анастасий, у которого они остановились -- тоже, как когда-то и
Константин при Фотии, библиотекарь -- уже в первый свободный вечер собрал
друзей: послушать в исполнении самого Константина рассказ об обретении мощей
Климента.
Посидели на удивление славно. Глупых вопросов почти никто не задавал.
Эпизод с якорем (привязанным, как было известно, перед смертью к ногам
Климента), который Константин тоже нашел недалеко от костей, окончательно
удовлетворил затесавшихся зануд. Все остальные оказались прелестными людьми!
И вино было отменным: Константин рассказывал вначале о чудаковатом хазарском
Кагане, потом -- о поездке в Сирию и забавной дискуссии с тамошними
мусульманами, о Моравии, о новых буквах.
А Мефодий влез со своей классической, уже десяток раз обкатанной,
байкой о Фотии: так сказать, "кстати о хазарах". Сейчас, когда еще совсем
недавно только о Фотии все в Риме и говорили (ругались папы с патриархами и
раньше -- но в этот раз, похоже, дело, действительно, слишком далеко зашло)
-- успех байки был потрясающим!
Байка заключалась в том, что Фотий -- из хазар. И в качестве
подтверждения этого приводилась фраза императора Михаила. Выслушав однажды
жалобу государственного секретаря на то, что Фотий распространяет учение о
двух душах в человеке (вследствие чего прислуга требует двойной паек),
Михаил, якобы, ужасно развеселился и сказал:
-- Так вот что проповедует эта хазарская рожа!.. -- отсюда и пошло.
-- А он... Фотий... Он, что, и вправду так считает? Что... их две?.. --
испуганно спросил какой-то молоденький монах. -- Я читал, что хазары,
действительно, это говорят... Но Фотий же...
Все захохотали.
-- За слова Михаила -- я ручаюсь, -- сказал Мефодий. -- А остальное,
так сказать, люди рассказали. Нет, конечно, может он и вправду так считает,
я откуда знаю? На эту тему мы с ним, кажется, не говорили. Вот про его
любимое "филиокве" -- сколько угодно. А про две души -- что-то не помню...
-- А вообще-то, он, несомненно, хазар, -- подытожил Константин. -- В
душе, по крайней мере.
Разошлись только глубокой ночью, Константин, усталый, но очень
довольный первым проведенным в Риме днем, уснул, едва коснувшись головой
подушки.
Телеги продолжали катиться.
Этот сон -- один и тот же -- снился Константину вот уже который месяц.
Почти каждую ночь. Попытавшись однажды прикинуть, сколько за это время
мимо него прокатилось телег, Константин испугался.
По утрам, вспоминая сон, он становился мрачным. А со временем
почувствовал, что уже просто болен. Мефодий тоже заметил перемену в
Константине, но пока молчал. Ничего не говорил и сам Константин -- пока было
не до этого.
Приближался ответственнейший богословский диспут. Этакий как бы
экзамен... От него зависело -- продолжатся скандалы в Моравии, или нет.
Константин и Мефодий были уверены в успехе, но, все равно, как и положено
перед экзаменом, немного волновались -- два дня перечитывали, сидя во дворе,
на солнышке, Василия Великого и Григория Богослова.
Экзамен, как и ожидалось, оказался простой формальностью. Римские
богословы, по сравнению с Константинопольскими, были как-то совсем уж
простоваты...
Анастасий, подслушивавший за дверью, крепко обнял вышедших Константина
и Мефодия -- он волновался гораздо больше их. И уже прикупил несколько
кувшинчиков неплохого вина.
Вечером опять собралась приятная компания -- отметили успех. Очень
хорошо посидели.
Ночью, уже под утро, опять приснился сон с телегами. Константин
заинтересовался наконец, что же в них лежит. Оказалось, что там камни. Или,
может быть, даже простые кирпичи -- большие, в каждой телеге помногу. Легче
от этой новости ему не стало.
Утром опять очень болела голова.
С головной болью стоял Константин на службе в базилике святого Петра.
Лучшего подтверждения прочности их теперешнего положения в Моравии нельзя
было и придумать. Папа Адриан лично освятил подаренное ему Константином и
Мефодием евангелие, написанное по-славянски, новыми значками. Он
торжественно водрузил его в алтаре базилики, на специально сделанном по
этому случаю позолоченном столике.
-- Очень мило с его стороны, -- шепнул Константин Мефодию. -- Особенно,
если учесть, что он не знает славянского. И не понимает в книге ни одной
буквочки. Мало ли, что я там понаписал! Может я коран переписывал... Нет,
правда приятно. Значит, действительно доверяет... Славный человек. --
Мефодий кивнул, не поворачивая головы. Константин помолчал, а потом опять
зашептал: -- Я никогда и представить такого не мог... Что мои детские
секретные закорючки -- я же их придумал, чтобы никто понять не мог что
написано! -- и удостоятся вдруг... гм... такой высочайшей почести...
Мефодий сурово покосился на Константина, но не удержался и чуть заметно
ему подмигнул. Последнее слово папы стихло под сводом базилики и тут же,
ниоткуда и отовсюду, со всех сторон, отраженный стенами, витражами,
рассеченный колоннами, зазвучал торжественный гимн в исполнении хора
мальчиков.
Вечером приехал с письмами гонец из Моравии. Там дело шло полным ходом:
школы работали, в деньгах нужды не было. Чуть-чуть неприятными были только
два письма: от Горазда и Климента (тех самых, первых, учеников). Горазд
жаловался на Климента, Наума и Ангелария, что они затеяли выдумать еще
какие-то буквы!
А Климент в своем письме успокаивал: мол, ничего страшного, чего он
(Горазд) кляузничает? Делаем мы это, мол, просто так, для себя, никого не
учим... И даже объяснял, что за буквы они придумали.
Константин, посмотрев на эти буквы, скривился: -- Никакой фантазии! Ну
посмотри, -- позвал он Мефодия, -- ведь сразу видно, что простые такие
ребята, ну разве так... тупо... можно делать?.. -- он грустно отдал Мефодию
письмо. -- Тоже мне -- славянские Ульфилы...
Климент предлагал просто использовать греческие буквы и только для тех
звуков, которых у греков как бы не было -- придумал несколько новых значков.
Да и те -- слепил из греческих или вообще содрал из других языков.
-- И те, которые у меня взял -- тоже спертые! Вот, букву для звука "Ш",
-- показал Константин, -- я и сам в еврейском... гм... позаимствовал. Уже
недавно, правда. Видишь, на "ШИН" похоже... Фу, -- он отбросил письмо.
Мефодий тоже поморщился.
-- ...Ну никакой фантазии! -- обиженно повторил Константин.
-- А вроде такие были толковые мальчики... Напиши, поругай их, что ли,
немножко?
-- Им же тоже хочется прославиться! -- засмеялся Мефодий. -- Вот они и
стараются, как могут...
Константин ничего не ответил, только пожал плечами, закрыл глаза...
-- Ты не болен? -- спросил, наконец, Мефодий.
Константин кивнул: -- Помру, видать, скоро! -- пошутил он.
В тот же вечер, на закате, он в первый раз потерял сознание. Они втроем
-- с Анастасием -- любовались, стоя на высокой площадке Башни Ангела,
раскинувшимся внизу Римом, Анастасий перечислял, показывая пальцем,
возвышающиеся повсюду вокруг купола церквей, говорил их названия. Вдруг
Константин с тихим стоном повалился на пол.
Пришел он в себя только на следующее утро.
-- Ты всю ночь бредил, -- сказал сидевший рядом Мефодий. -- Говорил...
даже напевал... на каком-то тарабарском языке.
-- На каком?
-- На никаком! Похож, вроде бы, на какие-то: немножко на арабский,
немножко на немецкий, на еврейский тоже, даже на славянский, но разобрать
ничего не удается... Как будто бы я эти слова и знаю, но...
Константин слабо улыбнулся: -- Это все сон.
Мефодий удивился.
-- Сон! -- повторил Константин. -- Мне уже очень давно снится один и
тот же сон. В первый раз приснился еще в Константинополе. Помнишь, когда ты
приперся ко мне среди ночи, а я спросил: "Если приснилась телега, то это к
чему?"
-- Конечно помню! Я ответил...
-- Так вот тогда мне в первый раз это и приснилось. А теперь вот, уже,
наверное, месяц -- каждую ночь...
И Константин рассказал свой сон -- все, что смог выяснить за эти годы:
сколько тысяч телег прокатилось, как часто опять проезжали знакомые телеги
(одну, запряженную приметным быком с белыми ушами и белой кисточкой на
хвосте, Константин видел три раза, правда, каждый раз с новым погонщиком).
-- ...А говорят они все на том языке, который я уже давно пытаюсь
понять и который ты сегодня ночью услышал, когда я бредил, -- закончил
Константин.
-- А что ты говорил?.. -- спросил Мефодий.
-- Я за ними пытался повторять, -- Константин чуть не заплакал. -- Я
совсем чуть-чуть, совсем-совсем чуть-чуть не могу вспомнить! Я знаю, но
забыл!.. Я все эти слова знаю! Точно знаю. Но почему-то забыл!..
-- А куда они эти камни везут? -- спросил Мефодий.
-- Куда?.. -- удивленно переспросил Константин. -- А ведь
действительно, давно пора узнать. Обязательно в следующий раз узнаю. Если до
этого не умру...
Он опять устало закрыл глаза. Потом, взяв Мефодия за руку, улыбнулся и
тихо спросил: -- Хоть сейчас, что ли, в монахи постричься, а, Мефодий? Давно
ведь уже хотел...
Через три дня, перед рассветом (став уже, в монашестве, Кириллом),
Константин попросил срочно привести к нему брата:
-- Доброе утро, Кирилл! -- улыбнулся, войдя, Мефодий.
-- Здорово, Мефодий! -- улыбнулся тот в ответ; за эти три дня он сильно
похудел и совсем ослабел -- не мог теперь даже приподнять головы.
Мефодий принес с собой новые письма из Моравии. Появилось следующее,
четвертое, поколение учеников; Горазд не поленился посчитать, получалось,
что писать и читать за все время научилось уже более пятисот человек! И
почти у каждого из них уже были свои ученики.
Кирилл улыбнулся: -- Прижились-таки, похоже, мои закорючки! Пятьсот...
Если каждый научит еще пятерых -- две с половиной тысячи получится. Еще
через годик -- двенадцать с половиной тысяч... Уже лет через пять некого
будет учить! Представляешь -- туча народа сидит и мои закорючки рисует,
рисует... Как, говоришь, их выдумали называть? "Глаголицей"? -- он
засмеялся. -- Хорошо хоть не "письмицей" какой-нибудь...
-- Знал бы ты, как твой любимый Климент свои новые буквы назвал. Те,
которые как греческие. С перепугу, наверное. Почуял, что они тебе не
понравится...
-- Как?
-- В честь тебя -- "константиницей" -- торжественно произнес Мефодий.
Кирилл чуть не умер от смеха раньше срока.
Переведя наконец дух, он посмотрел на Мефодия: -- Я тебя зачем
позвал-то...
Выглядел Константин теперь совсем плохо -- похудел, осунулся. Мефодий
сказал ему об этом, Кирилл улыбнулся: -- Да я и сам чувствую! Что уж тут
поделаешь. Устал. Три дня за ними шел.
-- Что?..
-- За телегами, говорю, шел. Выяснил я куда они кирпичи везут. Ни за
что не поверишь.
Мефодий молчал.
-- Два дня брел за ними по обочине -- ровным счетом ничего. А потом
вдалеке показалось... Еще целый день шел, пока понял что это за громадина.
Обычная башня, кирпичная. Только очень высокая. Очень! Почти до самого
неба... -- Кирилл улыбнулся, глядя на вздрогнувшего Мефодия, потом сказал:
-- Ну, прощай... Мне обратно пора. Вот язык пойму -- еще чуть-чуть и пойму!
обязательно! я уже почти вспомнил! -- и тогда... А если... Я им дорогу
загорожу, вся стройка тогда остановится... -- он говорил все тише,
невнятнее.
Вошел Анастасий. Он испуганно посмотрел на Кирилла -- неподвижного,
лишь почти беззвучно шевелящего губами, заметил, как он, с трудом двигая
пальцем, чертит что-то на покрывале.
-- Бредит, -- тихо объяснил Мефодий. Он заплакал.
Потом вскрикнул вдруг: -- Бычки!.. -- Испуганно взглянул на замершего
Кирилла. -- Его же бычки задавят! Кирилл! -- он затряс его за плечи. --
Кирилл!!!
Но, похоже, было уже поздно. И что там на самом деле произошло -- так
никто и не узнал. И до сих пор никто не знает.
Зато отпевали Кирилла очень торжественно, с подобающими для человека,
нашедшего мощи святого Климента, почестями.
С хором мальчиков из базилики Святого Петра.