Зеев (Владимир) Жаботинский. Пятеро
---------------------------------------------------------------
OCR: А.Кобринский http://a-kobrinsky.tripod.com/zv/
Spellcheck: Mark Blau http://www.geocities.com/117419/jabo/jabo.html
---------------------------------------------------------------
Начало этого рассказа из быта прежней Одессы относится к самому началу
нашего столетия. Первые годы века тогда у нас назывались "весна" в смысле
общественного и государственного пробуждения, а для моего поколения совпали
также с личной весной в смысле подлинной двадцатилетней молодости. И обе
весны, и тогдашний облик веселой столицы Черноморья в акациях на крутом
берегу сплелись у меня в воспоминании с историей одной семьи, где было
пятеро детей: Маруся, Марко, Лика, Сережа, Торик. Часть их приключений
прошла у меня на глазах; остальное, если понадобится, расскажу по наслышке
или досочиню по догадке. Не ручаюсь за точность ни в жизнеописаниях героев,
ни в последовательности общих событий, городских или всероссийских, на фоне
которых это все произошло: часто память изменяет, а наводить справки
некогда. Но в одном уверен: те пятеро мне запомнились не случайно, и не
потому, что Марусю и Сережу я очень любил, и еще больше их легкомысленную,
мудрую, многострадальную мать, -- а потому, что на этой семье, как на
классном примере из учебника, действительно свела с нами счеты -- и добрые,
и злые -- вся предшествовавшая эпоха еврейского обрусения. Эту сторону дела,
я уверен, расскажу правдиво, без придирчивости, тем более, что все это уже
далеко и все давно стало грустно-любимым. "Я сын моей поры, мне в ней
понятно добро и зло, я знаю блеск и тлю: я сын ее, и в ней люблю все пятна,
весь яд ее люблю"
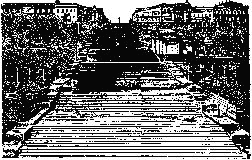
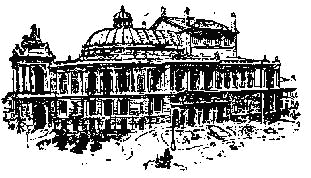 В первый раз я увидел г-жу Мильгром и ее старшую дочь на первом
представлении "Моны Ванны" в городском театре. Они сидели в ложе бенуара
неподалеку от моего кресла; в ложе было еще трое, но из другой семьи. Я их
заметил по причине и лестной, и очень нелестной для моего самолюбия.
Началось с того, что сидевший рядом со мною молодой коллега по газете,
бытописатель босяков и порта, сказал мне под шум наполнявшегося зала: --
Посмотри вправо, на ту рыжую евреечку в третьей ложе: как котенок в муфте!
-- Ему иногда прекрасно удавались сравнения: барышня в самом деле
выглядывала из своей пушистой ярко-красной прически, как кошечка из мехового
кольца на конфетной коробке. В то же время я увидел, что дама показала
девушке на меня и что то сказала, видно мою газетную кличку, а дочь сделала
большие глаза, недоверчиво пожала плечами и ответила (я это ясно видел по ее
губам): -- Неужели? не может быть!
Во втором антракте я пошел на галерку повидаться с приятелями
студентами. Важный институт была в нашем городском театре галерка: царство
студентов; боковые сиденья, кажется, чуть ли не только им и выдавались.
Поэтому всегда там особо дежурил околоточный надзиратель, всегда
какой-нибудь благообразный богатырь с двумя бородами на груди, как у
генерала, и в резерве у него имелись городовые. Когда студенты буянили
(например, когда старый Фигнер пустил петуха на высокой ноте в "Гугенотах",
и ему по этому поводу кстати еще припомнили небратское отношение к сестре,
сидевшей в Шлиссельбурге), -- появлялись городовые и выводили студентов за
локти, а надзиратель шагал позади и почтительно приговаривал: Пожалуйте, г.
студент, как же так можно...
В этот вечер никто не буянил. Газеты уже две недели готовили народ к
постановке "Моны Ванны"; не помню как, но несомненно вложили и в эту пьесу
некий революционный смысл (тогда выражались "освободительный"; все в те годы
преломлялось, за или против, чрез освободительную призму, даже пискливый
срыв голоса у тенора, именовавшегося солистом его величества). Представление
оправдало все ожидания. Героиню играла актриса, в которую все мы тогда были
просто влюблены: половина барышень в городе подражали ее ласково-унылому
голосу и подавали знакомым руку не сгибая, ладонью вниз, как она. "Фойе"
галерки, обычно в антрактах похожее на аллею бульвара, где тянулись
параллельно одна другой две тесные реки гуляющих, теперь напоминало форум:
всюду кучки, и в каждой кучке спор об одном и том же -- мыслимая ли вещь,
чтобы Принцивалле просидел с Моной Ванной, в таком наряде, целую ночь и не
протянул к ней даже руки?
Об этом шумели студенты и в той группе, где я нашел своих приятелей;
сквозь их весьма повышенные тоны я слышал, что и в соседней толпе, особенно
многолюдной, кипятились о том же. Вдруг я заметил, что в центре там стояла
та рыжая барышня. На вид ей было лет девятнадцать. Она была невысокого
роста, но сложена прекрасно по сдобному вкусу того полнокровного времени; на
ней был, конечно, тесный корсет с талией и боками, но, по-видимому, без
"чашек", что в среднем кругу, как мне говорили, считалось новшеством
нескромным; и рукава буфами не доходили даже до локтей, и хотя воротник
платья по-монашески подпирал ей горло, под воротничком спереди все-таки был
вырез вершка в полтора, тоже по тогдашнему дерзость. В довершение этого
внешнего впечатления, до меня донеслись такие отрывки разговора:
-- Но мыслимо ли, -- горячился студент, -- чтобы Принцивалле...
-- Ужас! -- воскликнула рыжая барышня, -- я бы на месте Моны Ванны
никогда этого не допустила. Такой балда!
Окружающие засмеялись, а один из них совсем заликовал:
-- Вы прелесть, Маруся, всегда скажете такую вещь, что расцеловать
хочется...
-- Подумаешь, экое отличие, -- равнодушно отозвалась Маруся, -- и так
скоро не останется на Дерибасовской ни одного студента, который мог бы
похвастаться, что никогда со мной не целовался.
Больше я не расслышал, хотя начал нарочно прислушиваться.
Закончился спектакль совсем величаво. После первого и второго акта
партер и ложи еще выжидали, что скажет высшая законодательница-галерка, и
только по ее сигналу начинали бурно хлопать; но теперь сами своевольно
загремели и ложи, и партер. Несчетное число раз выходил кланяться весь
состав, потом Мона Ванна с Принцивалле, потом Мона Ванна одна в своей черной
бархатной драпировке. Вдруг из грохота рукоплесканий выпала главная нота --
замолчала с обеих сторон боковая галерка: знак, что готовится высшая мера
триумфа, до тех пор едва ли не исключительная привилегия итальянских певиц и
певцов -- студенты ринулись в партер. Остальная публика, не переставая бить
в ладоши, обернулась выжидательно; расписной занавес опять поднялся, но еще
никого не было на сцене -- там тоже ждали высочайшего выхода юности. Через
секунду по всем проходам хлынули вперед синие сюртуки и серые тужурки;
помню, впереди всех по среднему проходу семимильными шагами шел огромный
грузин, с выражением лица деловым, серьезным, грозным, словно на баррикаду.
Подойдя к самому оркестру, он сунул фуражку под мышку и неторопливо, может
быть и не очень громко, с великим уверенным достоинством мерно и отчетливо
трижды ударил в ладоши ("словно султан, вызывающий из-за решетки прекрасную
Зюлейку", было на следующий день сказано в одной из газет). И только тогда,
в ответ на повелительный зов падишаха, вышла из-за кулис прекрасная Зюлейка;
я видел, у нее по настоящему дрожали губы, и спазмы рыданий подкатывались к
горлу; кругом стояла неописуемая буря; два капельдинера выбежали из-за кулис
убирать корзины с цветами, чтобы очистить поле для того, что тогда считалось
дороже цветов: на сцену полетели мятые, выцветшие, с облупленными козырьками
голубые фуражки. Позади студентов стояли пристава и околодочные, каждый, как
на подбор, с двумя бородами на груди; вид у них был благосклонный,
разрешительный, величественно-праздничный, подстать пылающему хрусталю,
позолоте, кариатидам, красному бархату кресел и барьеров, парадным одеждам
хлебных экспортеров и их черноглазых дам, всему великолепию беспечной сытой
Одессы. Я оглянулся на Марусю: она была вне себя от счастья, но смотрела не
на сцену, а на студентов, дергала мать за вздутые у плеч рукава и показывала
ей, по-видимому, своих ближайших друзей в толпе синих сюртуков и серых
тужурок, называя имена; если правильно помню -- до двадцати, а то и больше,
пока не пополз с потолка, тоже величаво, пожарный занавес.
Кто то мне сказал, что фамилия рыжей барышни Мильгром; и, уходя из
театра, я вспомнил, что с одним из членов этой семьи я уже знаком.
Встретились мы незадолго до того летом. Я гостил тогда у знакомых,
доживавших конец августа на даче у самого Ланжерона. Как то утром, когда
хозяева еще спали, я пошел вниз купаться, а потом задумал погрести. У моих
друзей была плоскодонка на две пары весел; я кое как сдвинул ее в воду с
крупно-зернистого гравия (у нас он просто назывался "песок"), и только тогда
заметил, что кто то ночью обломал обе уключины на правом борту. Запасных
тоже не оказалось. Нелепые были у нас на побережии уключины -- просто
деревянные палочки, к которым веревками привязывались неуклюжие толсторукие
весла: нужно было мастерство даже на то, чтобы весла не выворачивались, не
шлепали по воде плашмя. Зато никакого не нужно было мастерства на построение
такой уключины: обстругать сучок. Но мне это и в голову не пришло. Наше
поколение словно без пальцев выросло: когда отрывалась пуговица, мы скорбно
опускали головы и мечтали о семейной жизни, о жене, изумительном существе,
которое не боится никаких подвигов, знает, где купить иголку и где нитки, и
как за все это взяться. Я стоял перед лодкой, скорбно опустив голову, словно
перед сложной машиной, где что то испортилось таинственное, и нужен Эдисон,
чтобы спасти пропащее дело.
В этой беде подошел ко мне гимназист лет семнадцати на вид; потом
выяснилось, что ему едва 16, но он был высок для своего возраста. Он
посмотрел на обломки уключин деловитым оком бывалого мужчины, и задал мне
деловито вопрос:
В первый раз я увидел г-жу Мильгром и ее старшую дочь на первом
представлении "Моны Ванны" в городском театре. Они сидели в ложе бенуара
неподалеку от моего кресла; в ложе было еще трое, но из другой семьи. Я их
заметил по причине и лестной, и очень нелестной для моего самолюбия.
Началось с того, что сидевший рядом со мною молодой коллега по газете,
бытописатель босяков и порта, сказал мне под шум наполнявшегося зала: --
Посмотри вправо, на ту рыжую евреечку в третьей ложе: как котенок в муфте!
-- Ему иногда прекрасно удавались сравнения: барышня в самом деле
выглядывала из своей пушистой ярко-красной прически, как кошечка из мехового
кольца на конфетной коробке. В то же время я увидел, что дама показала
девушке на меня и что то сказала, видно мою газетную кличку, а дочь сделала
большие глаза, недоверчиво пожала плечами и ответила (я это ясно видел по ее
губам): -- Неужели? не может быть!
Во втором антракте я пошел на галерку повидаться с приятелями
студентами. Важный институт была в нашем городском театре галерка: царство
студентов; боковые сиденья, кажется, чуть ли не только им и выдавались.
Поэтому всегда там особо дежурил околоточный надзиратель, всегда
какой-нибудь благообразный богатырь с двумя бородами на груди, как у
генерала, и в резерве у него имелись городовые. Когда студенты буянили
(например, когда старый Фигнер пустил петуха на высокой ноте в "Гугенотах",
и ему по этому поводу кстати еще припомнили небратское отношение к сестре,
сидевшей в Шлиссельбурге), -- появлялись городовые и выводили студентов за
локти, а надзиратель шагал позади и почтительно приговаривал: Пожалуйте, г.
студент, как же так можно...
В этот вечер никто не буянил. Газеты уже две недели готовили народ к
постановке "Моны Ванны"; не помню как, но несомненно вложили и в эту пьесу
некий революционный смысл (тогда выражались "освободительный"; все в те годы
преломлялось, за или против, чрез освободительную призму, даже пискливый
срыв голоса у тенора, именовавшегося солистом его величества). Представление
оправдало все ожидания. Героиню играла актриса, в которую все мы тогда были
просто влюблены: половина барышень в городе подражали ее ласково-унылому
голосу и подавали знакомым руку не сгибая, ладонью вниз, как она. "Фойе"
галерки, обычно в антрактах похожее на аллею бульвара, где тянулись
параллельно одна другой две тесные реки гуляющих, теперь напоминало форум:
всюду кучки, и в каждой кучке спор об одном и том же -- мыслимая ли вещь,
чтобы Принцивалле просидел с Моной Ванной, в таком наряде, целую ночь и не
протянул к ней даже руки?
Об этом шумели студенты и в той группе, где я нашел своих приятелей;
сквозь их весьма повышенные тоны я слышал, что и в соседней толпе, особенно
многолюдной, кипятились о том же. Вдруг я заметил, что в центре там стояла
та рыжая барышня. На вид ей было лет девятнадцать. Она была невысокого
роста, но сложена прекрасно по сдобному вкусу того полнокровного времени; на
ней был, конечно, тесный корсет с талией и боками, но, по-видимому, без
"чашек", что в среднем кругу, как мне говорили, считалось новшеством
нескромным; и рукава буфами не доходили даже до локтей, и хотя воротник
платья по-монашески подпирал ей горло, под воротничком спереди все-таки был
вырез вершка в полтора, тоже по тогдашнему дерзость. В довершение этого
внешнего впечатления, до меня донеслись такие отрывки разговора:
-- Но мыслимо ли, -- горячился студент, -- чтобы Принцивалле...
-- Ужас! -- воскликнула рыжая барышня, -- я бы на месте Моны Ванны
никогда этого не допустила. Такой балда!
Окружающие засмеялись, а один из них совсем заликовал:
-- Вы прелесть, Маруся, всегда скажете такую вещь, что расцеловать
хочется...
-- Подумаешь, экое отличие, -- равнодушно отозвалась Маруся, -- и так
скоро не останется на Дерибасовской ни одного студента, который мог бы
похвастаться, что никогда со мной не целовался.
Больше я не расслышал, хотя начал нарочно прислушиваться.
Закончился спектакль совсем величаво. После первого и второго акта
партер и ложи еще выжидали, что скажет высшая законодательница-галерка, и
только по ее сигналу начинали бурно хлопать; но теперь сами своевольно
загремели и ложи, и партер. Несчетное число раз выходил кланяться весь
состав, потом Мона Ванна с Принцивалле, потом Мона Ванна одна в своей черной
бархатной драпировке. Вдруг из грохота рукоплесканий выпала главная нота --
замолчала с обеих сторон боковая галерка: знак, что готовится высшая мера
триумфа, до тех пор едва ли не исключительная привилегия итальянских певиц и
певцов -- студенты ринулись в партер. Остальная публика, не переставая бить
в ладоши, обернулась выжидательно; расписной занавес опять поднялся, но еще
никого не было на сцене -- там тоже ждали высочайшего выхода юности. Через
секунду по всем проходам хлынули вперед синие сюртуки и серые тужурки;
помню, впереди всех по среднему проходу семимильными шагами шел огромный
грузин, с выражением лица деловым, серьезным, грозным, словно на баррикаду.
Подойдя к самому оркестру, он сунул фуражку под мышку и неторопливо, может
быть и не очень громко, с великим уверенным достоинством мерно и отчетливо
трижды ударил в ладоши ("словно султан, вызывающий из-за решетки прекрасную
Зюлейку", было на следующий день сказано в одной из газет). И только тогда,
в ответ на повелительный зов падишаха, вышла из-за кулис прекрасная Зюлейка;
я видел, у нее по настоящему дрожали губы, и спазмы рыданий подкатывались к
горлу; кругом стояла неописуемая буря; два капельдинера выбежали из-за кулис
убирать корзины с цветами, чтобы очистить поле для того, что тогда считалось
дороже цветов: на сцену полетели мятые, выцветшие, с облупленными козырьками
голубые фуражки. Позади студентов стояли пристава и околодочные, каждый, как
на подбор, с двумя бородами на груди; вид у них был благосклонный,
разрешительный, величественно-праздничный, подстать пылающему хрусталю,
позолоте, кариатидам, красному бархату кресел и барьеров, парадным одеждам
хлебных экспортеров и их черноглазых дам, всему великолепию беспечной сытой
Одессы. Я оглянулся на Марусю: она была вне себя от счастья, но смотрела не
на сцену, а на студентов, дергала мать за вздутые у плеч рукава и показывала
ей, по-видимому, своих ближайших друзей в толпе синих сюртуков и серых
тужурок, называя имена; если правильно помню -- до двадцати, а то и больше,
пока не пополз с потолка, тоже величаво, пожарный занавес.
Кто то мне сказал, что фамилия рыжей барышни Мильгром; и, уходя из
театра, я вспомнил, что с одним из членов этой семьи я уже знаком.
Встретились мы незадолго до того летом. Я гостил тогда у знакомых,
доживавших конец августа на даче у самого Ланжерона. Как то утром, когда
хозяева еще спали, я пошел вниз купаться, а потом задумал погрести. У моих
друзей была плоскодонка на две пары весел; я кое как сдвинул ее в воду с
крупно-зернистого гравия (у нас он просто назывался "песок"), и только тогда
заметил, что кто то ночью обломал обе уключины на правом борту. Запасных
тоже не оказалось. Нелепые были у нас на побережии уключины -- просто
деревянные палочки, к которым веревками привязывались неуклюжие толсторукие
весла: нужно было мастерство даже на то, чтобы весла не выворачивались, не
шлепали по воде плашмя. Зато никакого не нужно было мастерства на построение
такой уключины: обстругать сучок. Но мне это и в голову не пришло. Наше
поколение словно без пальцев выросло: когда отрывалась пуговица, мы скорбно
опускали головы и мечтали о семейной жизни, о жене, изумительном существе,
которое не боится никаких подвигов, знает, где купить иголку и где нитки, и
как за все это взяться. Я стоял перед лодкой, скорбно опустив голову, словно
перед сложной машиной, где что то испортилось таинственное, и нужен Эдисон,
чтобы спасти пропащее дело.
В этой беде подошел ко мне гимназист лет семнадцати на вид; потом
выяснилось, что ему едва 16, но он был высок для своего возраста. Он
посмотрел на обломки уключин деловитым оком бывалого мужчины, и задал мне
деловито вопрос:
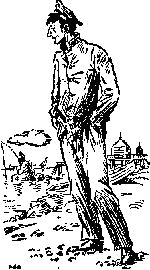 -- Кто тут у вас на берегу сторож?
-- Чубчик, -- сказал я, -- Автоном Чубчик; такой рыбак. Он ответил
презрительно:
-- Оттого и беспорядок, Чубчик! Его и другие рыбаки все за босявку
держут.
Я радостно поднял голову. Лингвистика всегда была подлинной страстью
моей жизни; и, живя в кругу просвещенном, где все старались выговаривать
слова на великорусский лад, уже давно я не слышал настоящего наречия
Фонтанов, Ланжерона, Пересыпи и Дюковского сада. "Держут за босявку".
Прелесть! "Держут" значит считают. А босявка -- это и перевести немыслимо; в
одном слове целая энциклопедия неодобрительных отзывов. -- Мой собеседник и
дальше говорил тем же слогом, но беда в том, что я-то родную речь забыл;
придется передавать его слова по большей части на казенном языке, с болью
сознавая, что каждая фраза -- не та.
-- Погодите, -- сказал он, -- это легко починить.
Вот был передо мною человек другой породы, человек с десятью пальцами!
Во-первых, у него оказался в кармане нож, и не перочинный, а финка.
Во-вторых, он тут же раздобыл и древесный материал: оглянувшись, нет ли кого
в поле зрения, уверенно подошел к соседней купальне со ступеньками и выломал
из под перил нижнюю балясину. Сломал ее пополам о колено; половинку
обстругал; примерил, влезет ли в дырку, опять постругал; выколупал кочерыжки
старых уключин и вставил новые. Только недоставало, чтобы завершил стихами:
"ну, старик, теперь готово...". -- Вместо того он, с той же
непосредственной, прямо в цель бьющей деловитостью, предложил мне способ
расплаты за услугу:
-- Возьмете меня с собой покататься?
Я, конечно, согласился, но при этом еще раз взглянул на его герб и, для
очистки совести, спросил:
-- А ведь учебный год уже начался -- вам, коллега, полагалось бы теперь
сидеть на первом уроке?
-- Le cadet de mes soucis, -- ответил он равнодушно, уже нанизывая
веревочные кольца с веслами на уключины. По-французски это у него искренно
вырвалось, а не для рисовки: я потом узнал, что у "их у младших детей были
гувернантки (но не у Маруси и не у Марко, отец тогда еще не так много
зарабатывал). Вообще он не рисовался, и более того -- совсем и не заботился
о собеседнике и о том, что собеседник думает, а поглощен был делом:
попробовал узлы на кольцах; поднял настил -- посмотреть, нет ли воды; открыл
ящик под кормовым сидением -- посмотреть, там ли черпалка; где-то постукал,
что-то потер. В то же время успел изложить, что решил показенничать, так как
узнал от соученика, проживавшего пансионером у грека, т. е. у чеха,
преподававшего греческий язык, что этот педагог решил сегодня вызвать его,
моего нового друга, не в очередь к доске. Поэтому он оставил записку матери
(она поздно встает): "если придет педель, скажи ему, что я ушел к дантисту",
депонировал ранец у соседнего табачника и проследовал на Ланжерон.
-- Компанейский человек ваша мама, -- сказал я с искренним одобрением.
Мы уже гребли.
-- Жить можно, -- подтвердил он, -- tout à fait potable.
-- Только зачем же тогда ранец у табачника? Оставили бы дома, раз мать
согласна.
-- Из-за папы невозможно. Он все еще необстрелянный. До сих пор не
может успокоиться, что я за него расписываюсь под отметками. Ничего,
привыкнет. Завтра я всю записку напишу его почерком: "сын мой, Мильгром
Сергей, пятого класса, не был такого-то числа по причине зубной боли".
Мы порядочно отъехали; он прекрасно греб, и знал все слова на языке
лодочников. Ветер сегодня опять разыграется часам к пяти, и не просто ветер,
а именно "трамонтан". "Затабаньте правым, не то налетим на той дубок".
"Смотрите -- подохла морская свинья", -- при этом указывая пальцем на тушу
дельфина, выброшенную вчера бурей на нижнюю площадку волнореза недалеко от
маяка.
В промежутках между мореходными замечаниями он дал мне много отрывочных
сведений о семье. Отец каждое утро "жарит по конке в контору", оттого он и
так опасен, когда не хочется идти в гимназию -- приходится выходить с ним из
дому вместе. По вечерам дома "толчок" (т. е., по-русски, толкучий рынок):
это к старшей сестре приходят "ее пассажиры", все больше студенты. Есть еще
старший брат Марко, человек ничего себе, "портативный", но "тюньтя" (этого
термина я и не знал: очевидно, вроде фофана или ротозея). Марко "в этом году
ницшеанец". Сережа про него собственноручно сочинил такие стихи:
Штаны с дырой, зато в идеях модник;
Ученый муж и трижды второгодник.
-- Это у нас дома, -- прибавил он, -- моя специальность. Маруся
требует, чтобы про каждого ее пассажира были стихи.
Сестра Лика, по-видимому, тоже старше Сережи, "догрызла последние
ногти, и теперь скучает и злится на всю Одессу". Моложе всех Торик, но он
"опора престола": обо всем "судит так правильно, что издали скиснуть можно".
К маяку, я забыл сказать, мы попали вот как: завидя дубок, на который
мы бы налетели, если бы он не велел "табанить", Сережа вспомнил, что теперь
у Андросовского мола полным полно дубков из Херсона -- везут монастырские
кавуны.
-- Хотите, подадимся туды? Там и пообедаем: я угощаю.
Очень уютно и забавно было мне с ним, а на даче лодка никому до вечера
не могла понадобиться; к тому же он обещал на обратный путь подобрать
"одного из обжорки", тот будет грести, а я отдохну. Я согласился, и мы
"подались" в порт, обогнув маяк и потратив на это дело часа три, из за ветра
и зыби и необходимости каждые полчаса вычерпывать из под настила все Черное
море.
-- Сухопутные они у вас адмиралы, -- бранился Сережа по адресу моих
друзей, так нерадиво содержавших лодку.
К пристани среди дубков пришлось пробираться сквозь давку, словно в
базарные часы на Толчке: малые суда чуть ли не терлись друг о друга, и
Сережа знал, что дубок, что баркас, что фелюка и еще пять или десять
названии. Очевидно, и его тут многие знали. С палуб, загроможденных
арбузами, раза три его окликнули ласково, приблизительно так:
-- Ого, Сирожка -- ты куды, гобелка? чего у класс не ходишь, сукин сын?
Как живется?
На что он неизменно отвечал:
-- Скандибобером!-- т. е., судя по тону, отлично живется. С одной
"фелюки" ему, скаля белые зубы, молодец в красной феске что-то закричал по
гречески, и Сережа отозвался на том же языке; я его не знаю, но, к
сожалению, разобрал окончание фразы -- "тин митера су", винительный падеж от
слова, означающего: твоя мамаша. В беседе со мной Сережа от этого стиля
воздерживался. Впрочем, излагая мне свои взгляды на учениц разных одесских
гимназий, он и раньше немного смутил меня своей фразеологией: самая шпацкая
форма у Куракиной-Текели -- фиолетовый цвет хорошо облегает, логарифмы
сторчат, как облупленные!
У пристани он, отказавши мне строго в разрешении внести свой пай на
расходы, сбегал куда то и принес целый куль съестного. Тут же на лодке,
окунув руки для гигиены в прорубь между арбузными корками, мы совершили
самую вкусную в моей жизни трапезу. Но еще слаще еды было любоваться на то,
как ел Сережа. Великое дело то, что англичане называют: table manners -- не
просто умение держать вилку и глотать суп без музыкального аккомпанемента, а
вообще "обряд питания", ритуал сложный, особый для каждого рода пищи и для
каждой обстановки, свято утоптанный поколениями гастрономической традиции.
Что вилка? Немудрено, когда есть вилка, действовать так, чтобы и глядеть
было приятно. Тут не только вилки не было, но она и вообще была бы
неуместна. Бублик семитати: Сережа его не сломал, а разрезал его по
экватору, на два кольца, смазал оба разреза салом, соскреб с глянцевитой
поверхности кунжутные семячки, -- ровно, как опытный сеятель на ниве,
рассыпал их по салу, опять сложил обе половинки и только тогда, не ломая,
впился в бублик зубами. Тарань: Сережа взял ее за хвост и плашмя, раз
десять, шлепнул о свой левый каблук, объяснив мне: "шкура легче слазит".
Действительно, его тарань дала себя обнажить гораздо скорее и совершеннее,
чем моя, хоть я над своею оперировал при помощи его финки; и я все еще
подрезывал прозрачные соленые пласты на крепких иглах ее скелета, когда от
его тарани давно только жирный след остался у него на подбородке, на щеках и
на кончике носа. Но высшей вершиной обряда был кавун. Я стал было нарезать
его ломтями; Сережа торопливо сказал: "для меня не надо". Он взял целую
четвертушку, подержал ее перед глазами, любуясь игрою красок, -- и исчез.
Пропал с глаз долой: был Сережа и нет Сережи. Предо мною сидела
гимназическая форма с маской зеленого мрамора вместо головы. Зависть меня
взяла: я со стороны почувствовал, что он в эту минуту переживает. Хороший
кавун пахнет тихой водой, или наоборот, это безразлично; но утонуть, как он,
в арбузе -- все равно, что заплыть пред вечером далеко в морское затишье,
лечь на спину и забыть обо всем. Идеал нирваны, ты и природа, и больше
ничего. Зависть меня взяла: я схватил вторую четвертушку и тоже распрощался
с землей.
...Потом пришел тот "один из обжорки", и я невольно подумал
по-берлински: -- so siehste aus. -- Сережа его представил: Мотя Банабак.
Тому было лет двадцать, но, несмотря на разницу возраста, это были,
по-видимому, закадычные друзья. По дороге обратно я заснул и их беседы не
слышал; но все остальное я вспомнил тогда, после театра, сидя за чашкой
восточного кофе и блюдцем сирского рахат-лукума в любимой греческой кофейне
на углу Красного переулка.
На субботнике, в литературно-артистическом кружке, после концерта, пока
служителя убирали стулья для танцев, в "виноградном" зале Маруся, таща за
рукав, подвела ко мне свою мать и сказала:
-- Эта женщина хочет с вами познакомиться, но робеет: Анна Михайловна
Мильгром. -- Между прочим, надо самой представиться: я ее дочь, но она ни в
чем не виновата.
Анна Михайловна подала мне руку, а Маруся, наказав ей вполголоса: "веди
себя как следует", ушла выбирать себе кавалера; ибо закон, по которому это
делается наоборот, не про нее был писан.
"Виноградный" зал так назывался потому, что стены его украшены были
выпуклым переплетом лоз и гроздей. Помещение кружка занимало целый особняк;
кому он принадлежал и кто там жил прежде, не помню, но, очевидно, богатые
баре. Он находился в лучшем месте города, на самой границе двух его миров --
верхнего и гаванного. До сих пор, зажмурив глаза, могу воскресить пред
собою, хоть уже сквозь туман, затушевывающий подробности, ту большую
площадь, память благородной архитектуры заморских мастеров первой трети
девятнадцатого века, и свидетельство о тихом изяществе старинного вкуса
первых строителей города -- Ришелье, де Рибаса, Воронцова, и всего того
пионерского поколения негоциантов и контрабандистов с итальянскими и
греческими фамилиями. Прямо предо мною -- крыльцо городской библиотеки:
слева на фоне широкого, почти безбрежного залива -- перистиль думы: оба не
посрамили бы ни Коринфа, ни Пизы. Обернись вправо, к первым домам
Итальянской улицы, в мое время уже носившей имя Пушкина, который там писал
Онегина; обернись назад, к Английскому клубу и, поодаль, левому фасаду
городского театра: все это строилось в разные времена, но все с одной и той
же любовью к иноземному, латинскому и эллинскому гению города с непонятным
именем, словно взятым из предания о царстве "на восток от солнца, на запад
от луны". И тут же, у самого особняка "литературки" (тоже по братски
похожего на виллы, которые я видел в Сиене), начинался один из спусков в
пропасть порта, и в тихие дни оттуда тянуло смолою и доносилось эхо
элеваторов.
В то подцензурное время "литературка" была оазисом свободного слова; мы
все, ее участники, сами не понимали, почему ее разрешило начальство и почему
не закрыло. Прямой крамолы там не было, все мы были так выдрессированы, что
слова вроде самодержавия и конституции сами собой как то не втискивались еще
в наш публичный словарь; но о чем бы ни шла речь, от мелкой земской единицы
до гауптманова "Затонувшего колокола", -- во всем рокотала крамола.
Чеховская тоска воспринималась, как протест против строя и династии;
выдуманные босяки Горького, вплоть до Мальвы, -- как набатный зов на
баррикады; почему и как, я бы теперь объяснить не взялся, но так оно было.
Партий еще не было, кроме подпольных; легальные марксисты и народники не
всегда точно знали, чем они друг на друга непохожи, и безропотно числились,
заодно с будущими кадетами, в общей безбрежности "передового лагеря"; но
вместе с тем, не имея программ, мы умудрялись выявлять запальчивую
программную нетерпимость. Кто то представил доклад о Надсоне, где
доказывалось, что был он не поэт-гражданин, а поэт-обыватель, "Кифа Мокиевич
в стихах": два часа подряд его громили оппоненты за реакционность этого
взгляда, и председательствовавший, грек, по профессии страховой инспектор,
собственной властью лишил докладчика права на последнее защитительное слово,
и так он и остался опозоренным навеки; а в чем был состав преступления, не
помню, и неважно. Но тогда все это было потрясающе важно; и, как тот особняк
стоял в главной точке города географически, так были четверги "литературки"
средоточием нашей духовной суеты.
Оглядываясь на все это через тридцать лет, я, однако, думаю, что
любопытнее всего было тогда у нас мирное братание народностей. Все восемь
или десять племен старой Одессы встречались в этом клубе, и действительно
никому еще не приходило в голову хотя бы молча для себя отметить, кто кто.
Года через два это изменилось, но на самой заре века мы искренно ладили.
Странно; дома у себя все мы, кажется, жили врозь от инородцев, посещали и
приглашали поляки поляков, русские русских, евреи евреев; исключения
попадались сравнительно редко; но мы еще не задумывались, почему это так,
подсознательно считали это явление просто временным недосмотром, а
вавилонскую пестроту общего форума -- символом прекрасного завтра. Может
быть, лучше всего выразил это настроение -- его примирительную поверхность и
его подземную угрозу -- один честный и глупый собутыльник мой, оперный тенор
с украинской фамилией, когда, подвыпив на субботнике, подошел после ужина
обнять меня за какую то застольную речь:
-- За самую печенку вы меня сегодня цапнули, -- сказал он, трижды
лобызаясь, -- водой нас теперь не разольешь: побратимы на всю жизнь. Жаль
только, что вот еще болтают люди про веру: один русский, другой еврей. Какая
разница? Была бы душа общая, как у нас с вами. А вот X. -- тот другое дело:
у него душа еврейская. Подлая это душа...
Анна Михайловна оказалась вблизи совсем моложавой госпожею с
удивительно добрыми глазами; очень извинялась за выходку дочери -- "вам не
до старух, вы хотите танцевать". Я правдиво объяснил, что еще в гимназии
учитель танцев Цорн прогнал меня из класса, обнаружив, что я никак не в
состоянии постигнуть разницу между кадрилью и вальсом в три па. Мы сели в
уголок за фикусом и разговорились; причем я сначала пытался беседовать
галантно ("моей дочери скоро двадцать лет" -- "кто вам, сударыня, позволил
выйти замуж в приготовительном классе?"), но она просто отмахнулась и без
церемонии сразу перевела меня в детскую:
-- Слушайте, я действительно хотела с вами встретиться. Мой муж знал
вашего покойного отца когда то на Днепре; мы часто о вас говорим, и я хотела
вас спросить: отчего вы, человек способный, околачиваетесь без профессии?
Для первого знакомства это был очень обидный вопрос; но у нее был
особый талант (потом еще в большей степени я нашел его у Маруси) говорить
самые неподходящие вещи как-то по-милому, словно ей все можно.
-- Без профессии? да ведь я уже сколько лет газетчик.
Она посмотрела на меня с неподдельным изумлением, словно бы я сказал,
что вот уже десять лет прыгаю на одной ноге.
-- Это ж не карьера. Писать можно еще год, еще два;
нельзя всю жизнь сочинять фельетоны, Игнац Альбертович (это мой муж)
охотно устроил бы вас у себя в конторе; или подумайте об адвокатуре; или
что-нибудь, только нельзя же болтаться человеку в воздухе без настоящего
заработка.
Я стал было доказывать питательные качества своего ремесла, но
почувствовал, что не поможет ему защита: в ее представлениях о социальной
лестнице просто не было для него ступени; в старину, говорят, так смотрели
все порядочные люди на актеров; или, может быть, это проявился атавизм
еврейский, и мое занятие казалось ей чем-то вроде профессии меламеда, за
которую берется человек потому, что ничего другого не нашлось. Я бросил
апологию и перешел в наступление:
-- Откровенность за откровенность. Я знаю двоих из ваших детей: эту
старшую барышню и Сережу. Скажите: как у них-то прививаются ваши
благоразумные советы? Оба они прелесть, но что то, боюсь, не в вашем
стиле...
-- О, это другое дело. Они мои дети; я скорее на крышу гулять полезу,
чем стану им советовать.
-- Как так?
-- Последний человек, которого люди слушают, это Мать;
или отец, все равно. В каждом поколении повторяется трагедия отцов и
детей, и всегда одна и та же: именно то, что проповедуют родители, в один
прекрасный день, оказывается, детям осточертело, заодно и родители
осточертели. Спасибо, не хочу.
"Умница дама", подумал я, и решил, что занятнее не проведу вечера, чем
с нею. Эта семья меня уже заинтересовала; я стал расспрашивать о ее детях,
она охотно рассказывала, минутами с такой откровенностью, которая и вчуже
меня бы резнула, если бы у нее все это не выходило "по милому".
Между танцами подбежала к нам Маруся; сказала мне, указывая на мать:
"берегитесь, она форменная деми-вьерж -- обворожить обворожит, а на роман не
согласится"; и тут же сообщила матери: "весь вечер танцую с Н. Н.; влюблена;
жаль, у него усы, но я надеюсь, что мягкие, царапать не будут", -- и
убежала.
-- От слова не станется, -- сказал я утешительно, думая, что Анна
Михайловна смущена конкретностью этого прогноза; но она ничуть не была
смущена.
-- У девушек этого поколения, что слово, что дело -- разница их не
пугает.
-- А вас?
-- Кто тут у вас на берегу сторож?
-- Чубчик, -- сказал я, -- Автоном Чубчик; такой рыбак. Он ответил
презрительно:
-- Оттого и беспорядок, Чубчик! Его и другие рыбаки все за босявку
держут.
Я радостно поднял голову. Лингвистика всегда была подлинной страстью
моей жизни; и, живя в кругу просвещенном, где все старались выговаривать
слова на великорусский лад, уже давно я не слышал настоящего наречия
Фонтанов, Ланжерона, Пересыпи и Дюковского сада. "Держут за босявку".
Прелесть! "Держут" значит считают. А босявка -- это и перевести немыслимо; в
одном слове целая энциклопедия неодобрительных отзывов. -- Мой собеседник и
дальше говорил тем же слогом, но беда в том, что я-то родную речь забыл;
придется передавать его слова по большей части на казенном языке, с болью
сознавая, что каждая фраза -- не та.
-- Погодите, -- сказал он, -- это легко починить.
Вот был передо мною человек другой породы, человек с десятью пальцами!
Во-первых, у него оказался в кармане нож, и не перочинный, а финка.
Во-вторых, он тут же раздобыл и древесный материал: оглянувшись, нет ли кого
в поле зрения, уверенно подошел к соседней купальне со ступеньками и выломал
из под перил нижнюю балясину. Сломал ее пополам о колено; половинку
обстругал; примерил, влезет ли в дырку, опять постругал; выколупал кочерыжки
старых уключин и вставил новые. Только недоставало, чтобы завершил стихами:
"ну, старик, теперь готово...". -- Вместо того он, с той же
непосредственной, прямо в цель бьющей деловитостью, предложил мне способ
расплаты за услугу:
-- Возьмете меня с собой покататься?
Я, конечно, согласился, но при этом еще раз взглянул на его герб и, для
очистки совести, спросил:
-- А ведь учебный год уже начался -- вам, коллега, полагалось бы теперь
сидеть на первом уроке?
-- Le cadet de mes soucis, -- ответил он равнодушно, уже нанизывая
веревочные кольца с веслами на уключины. По-французски это у него искренно
вырвалось, а не для рисовки: я потом узнал, что у "их у младших детей были
гувернантки (но не у Маруси и не у Марко, отец тогда еще не так много
зарабатывал). Вообще он не рисовался, и более того -- совсем и не заботился
о собеседнике и о том, что собеседник думает, а поглощен был делом:
попробовал узлы на кольцах; поднял настил -- посмотреть, нет ли воды; открыл
ящик под кормовым сидением -- посмотреть, там ли черпалка; где-то постукал,
что-то потер. В то же время успел изложить, что решил показенничать, так как
узнал от соученика, проживавшего пансионером у грека, т. е. у чеха,
преподававшего греческий язык, что этот педагог решил сегодня вызвать его,
моего нового друга, не в очередь к доске. Поэтому он оставил записку матери
(она поздно встает): "если придет педель, скажи ему, что я ушел к дантисту",
депонировал ранец у соседнего табачника и проследовал на Ланжерон.
-- Компанейский человек ваша мама, -- сказал я с искренним одобрением.
Мы уже гребли.
-- Жить можно, -- подтвердил он, -- tout à fait potable.
-- Только зачем же тогда ранец у табачника? Оставили бы дома, раз мать
согласна.
-- Из-за папы невозможно. Он все еще необстрелянный. До сих пор не
может успокоиться, что я за него расписываюсь под отметками. Ничего,
привыкнет. Завтра я всю записку напишу его почерком: "сын мой, Мильгром
Сергей, пятого класса, не был такого-то числа по причине зубной боли".
Мы порядочно отъехали; он прекрасно греб, и знал все слова на языке
лодочников. Ветер сегодня опять разыграется часам к пяти, и не просто ветер,
а именно "трамонтан". "Затабаньте правым, не то налетим на той дубок".
"Смотрите -- подохла морская свинья", -- при этом указывая пальцем на тушу
дельфина, выброшенную вчера бурей на нижнюю площадку волнореза недалеко от
маяка.
В промежутках между мореходными замечаниями он дал мне много отрывочных
сведений о семье. Отец каждое утро "жарит по конке в контору", оттого он и
так опасен, когда не хочется идти в гимназию -- приходится выходить с ним из
дому вместе. По вечерам дома "толчок" (т. е., по-русски, толкучий рынок):
это к старшей сестре приходят "ее пассажиры", все больше студенты. Есть еще
старший брат Марко, человек ничего себе, "портативный", но "тюньтя" (этого
термина я и не знал: очевидно, вроде фофана или ротозея). Марко "в этом году
ницшеанец". Сережа про него собственноручно сочинил такие стихи:
Штаны с дырой, зато в идеях модник;
Ученый муж и трижды второгодник.
-- Это у нас дома, -- прибавил он, -- моя специальность. Маруся
требует, чтобы про каждого ее пассажира были стихи.
Сестра Лика, по-видимому, тоже старше Сережи, "догрызла последние
ногти, и теперь скучает и злится на всю Одессу". Моложе всех Торик, но он
"опора престола": обо всем "судит так правильно, что издали скиснуть можно".
К маяку, я забыл сказать, мы попали вот как: завидя дубок, на который
мы бы налетели, если бы он не велел "табанить", Сережа вспомнил, что теперь
у Андросовского мола полным полно дубков из Херсона -- везут монастырские
кавуны.
-- Хотите, подадимся туды? Там и пообедаем: я угощаю.
Очень уютно и забавно было мне с ним, а на даче лодка никому до вечера
не могла понадобиться; к тому же он обещал на обратный путь подобрать
"одного из обжорки", тот будет грести, а я отдохну. Я согласился, и мы
"подались" в порт, обогнув маяк и потратив на это дело часа три, из за ветра
и зыби и необходимости каждые полчаса вычерпывать из под настила все Черное
море.
-- Сухопутные они у вас адмиралы, -- бранился Сережа по адресу моих
друзей, так нерадиво содержавших лодку.
К пристани среди дубков пришлось пробираться сквозь давку, словно в
базарные часы на Толчке: малые суда чуть ли не терлись друг о друга, и
Сережа знал, что дубок, что баркас, что фелюка и еще пять или десять
названии. Очевидно, и его тут многие знали. С палуб, загроможденных
арбузами, раза три его окликнули ласково, приблизительно так:
-- Ого, Сирожка -- ты куды, гобелка? чего у класс не ходишь, сукин сын?
Как живется?
На что он неизменно отвечал:
-- Скандибобером!-- т. е., судя по тону, отлично живется. С одной
"фелюки" ему, скаля белые зубы, молодец в красной феске что-то закричал по
гречески, и Сережа отозвался на том же языке; я его не знаю, но, к
сожалению, разобрал окончание фразы -- "тин митера су", винительный падеж от
слова, означающего: твоя мамаша. В беседе со мной Сережа от этого стиля
воздерживался. Впрочем, излагая мне свои взгляды на учениц разных одесских
гимназий, он и раньше немного смутил меня своей фразеологией: самая шпацкая
форма у Куракиной-Текели -- фиолетовый цвет хорошо облегает, логарифмы
сторчат, как облупленные!
У пристани он, отказавши мне строго в разрешении внести свой пай на
расходы, сбегал куда то и принес целый куль съестного. Тут же на лодке,
окунув руки для гигиены в прорубь между арбузными корками, мы совершили
самую вкусную в моей жизни трапезу. Но еще слаще еды было любоваться на то,
как ел Сережа. Великое дело то, что англичане называют: table manners -- не
просто умение держать вилку и глотать суп без музыкального аккомпанемента, а
вообще "обряд питания", ритуал сложный, особый для каждого рода пищи и для
каждой обстановки, свято утоптанный поколениями гастрономической традиции.
Что вилка? Немудрено, когда есть вилка, действовать так, чтобы и глядеть
было приятно. Тут не только вилки не было, но она и вообще была бы
неуместна. Бублик семитати: Сережа его не сломал, а разрезал его по
экватору, на два кольца, смазал оба разреза салом, соскреб с глянцевитой
поверхности кунжутные семячки, -- ровно, как опытный сеятель на ниве,
рассыпал их по салу, опять сложил обе половинки и только тогда, не ломая,
впился в бублик зубами. Тарань: Сережа взял ее за хвост и плашмя, раз
десять, шлепнул о свой левый каблук, объяснив мне: "шкура легче слазит".
Действительно, его тарань дала себя обнажить гораздо скорее и совершеннее,
чем моя, хоть я над своею оперировал при помощи его финки; и я все еще
подрезывал прозрачные соленые пласты на крепких иглах ее скелета, когда от
его тарани давно только жирный след остался у него на подбородке, на щеках и
на кончике носа. Но высшей вершиной обряда был кавун. Я стал было нарезать
его ломтями; Сережа торопливо сказал: "для меня не надо". Он взял целую
четвертушку, подержал ее перед глазами, любуясь игрою красок, -- и исчез.
Пропал с глаз долой: был Сережа и нет Сережи. Предо мною сидела
гимназическая форма с маской зеленого мрамора вместо головы. Зависть меня
взяла: я со стороны почувствовал, что он в эту минуту переживает. Хороший
кавун пахнет тихой водой, или наоборот, это безразлично; но утонуть, как он,
в арбузе -- все равно, что заплыть пред вечером далеко в морское затишье,
лечь на спину и забыть обо всем. Идеал нирваны, ты и природа, и больше
ничего. Зависть меня взяла: я схватил вторую четвертушку и тоже распрощался
с землей.
...Потом пришел тот "один из обжорки", и я невольно подумал
по-берлински: -- so siehste aus. -- Сережа его представил: Мотя Банабак.
Тому было лет двадцать, но, несмотря на разницу возраста, это были,
по-видимому, закадычные друзья. По дороге обратно я заснул и их беседы не
слышал; но все остальное я вспомнил тогда, после театра, сидя за чашкой
восточного кофе и блюдцем сирского рахат-лукума в любимой греческой кофейне
на углу Красного переулка.
На субботнике, в литературно-артистическом кружке, после концерта, пока
служителя убирали стулья для танцев, в "виноградном" зале Маруся, таща за
рукав, подвела ко мне свою мать и сказала:
-- Эта женщина хочет с вами познакомиться, но робеет: Анна Михайловна
Мильгром. -- Между прочим, надо самой представиться: я ее дочь, но она ни в
чем не виновата.
Анна Михайловна подала мне руку, а Маруся, наказав ей вполголоса: "веди
себя как следует", ушла выбирать себе кавалера; ибо закон, по которому это
делается наоборот, не про нее был писан.
"Виноградный" зал так назывался потому, что стены его украшены были
выпуклым переплетом лоз и гроздей. Помещение кружка занимало целый особняк;
кому он принадлежал и кто там жил прежде, не помню, но, очевидно, богатые
баре. Он находился в лучшем месте города, на самой границе двух его миров --
верхнего и гаванного. До сих пор, зажмурив глаза, могу воскресить пред
собою, хоть уже сквозь туман, затушевывающий подробности, ту большую
площадь, память благородной архитектуры заморских мастеров первой трети
девятнадцатого века, и свидетельство о тихом изяществе старинного вкуса
первых строителей города -- Ришелье, де Рибаса, Воронцова, и всего того
пионерского поколения негоциантов и контрабандистов с итальянскими и
греческими фамилиями. Прямо предо мною -- крыльцо городской библиотеки:
слева на фоне широкого, почти безбрежного залива -- перистиль думы: оба не
посрамили бы ни Коринфа, ни Пизы. Обернись вправо, к первым домам
Итальянской улицы, в мое время уже носившей имя Пушкина, который там писал
Онегина; обернись назад, к Английскому клубу и, поодаль, левому фасаду
городского театра: все это строилось в разные времена, но все с одной и той
же любовью к иноземному, латинскому и эллинскому гению города с непонятным
именем, словно взятым из предания о царстве "на восток от солнца, на запад
от луны". И тут же, у самого особняка "литературки" (тоже по братски
похожего на виллы, которые я видел в Сиене), начинался один из спусков в
пропасть порта, и в тихие дни оттуда тянуло смолою и доносилось эхо
элеваторов.
В то подцензурное время "литературка" была оазисом свободного слова; мы
все, ее участники, сами не понимали, почему ее разрешило начальство и почему
не закрыло. Прямой крамолы там не было, все мы были так выдрессированы, что
слова вроде самодержавия и конституции сами собой как то не втискивались еще
в наш публичный словарь; но о чем бы ни шла речь, от мелкой земской единицы
до гауптманова "Затонувшего колокола", -- во всем рокотала крамола.
Чеховская тоска воспринималась, как протест против строя и династии;
выдуманные босяки Горького, вплоть до Мальвы, -- как набатный зов на
баррикады; почему и как, я бы теперь объяснить не взялся, но так оно было.
Партий еще не было, кроме подпольных; легальные марксисты и народники не
всегда точно знали, чем они друг на друга непохожи, и безропотно числились,
заодно с будущими кадетами, в общей безбрежности "передового лагеря"; но
вместе с тем, не имея программ, мы умудрялись выявлять запальчивую
программную нетерпимость. Кто то представил доклад о Надсоне, где
доказывалось, что был он не поэт-гражданин, а поэт-обыватель, "Кифа Мокиевич
в стихах": два часа подряд его громили оппоненты за реакционность этого
взгляда, и председательствовавший, грек, по профессии страховой инспектор,
собственной властью лишил докладчика права на последнее защитительное слово,
и так он и остался опозоренным навеки; а в чем был состав преступления, не
помню, и неважно. Но тогда все это было потрясающе важно; и, как тот особняк
стоял в главной точке города географически, так были четверги "литературки"
средоточием нашей духовной суеты.
Оглядываясь на все это через тридцать лет, я, однако, думаю, что
любопытнее всего было тогда у нас мирное братание народностей. Все восемь
или десять племен старой Одессы встречались в этом клубе, и действительно
никому еще не приходило в голову хотя бы молча для себя отметить, кто кто.
Года через два это изменилось, но на самой заре века мы искренно ладили.
Странно; дома у себя все мы, кажется, жили врозь от инородцев, посещали и
приглашали поляки поляков, русские русских, евреи евреев; исключения
попадались сравнительно редко; но мы еще не задумывались, почему это так,
подсознательно считали это явление просто временным недосмотром, а
вавилонскую пестроту общего форума -- символом прекрасного завтра. Может
быть, лучше всего выразил это настроение -- его примирительную поверхность и
его подземную угрозу -- один честный и глупый собутыльник мой, оперный тенор
с украинской фамилией, когда, подвыпив на субботнике, подошел после ужина
обнять меня за какую то застольную речь:
-- За самую печенку вы меня сегодня цапнули, -- сказал он, трижды
лобызаясь, -- водой нас теперь не разольешь: побратимы на всю жизнь. Жаль
только, что вот еще болтают люди про веру: один русский, другой еврей. Какая
разница? Была бы душа общая, как у нас с вами. А вот X. -- тот другое дело:
у него душа еврейская. Подлая это душа...
Анна Михайловна оказалась вблизи совсем моложавой госпожею с
удивительно добрыми глазами; очень извинялась за выходку дочери -- "вам не
до старух, вы хотите танцевать". Я правдиво объяснил, что еще в гимназии
учитель танцев Цорн прогнал меня из класса, обнаружив, что я никак не в
состоянии постигнуть разницу между кадрилью и вальсом в три па. Мы сели в
уголок за фикусом и разговорились; причем я сначала пытался беседовать
галантно ("моей дочери скоро двадцать лет" -- "кто вам, сударыня, позволил
выйти замуж в приготовительном классе?"), но она просто отмахнулась и без
церемонии сразу перевела меня в детскую:
-- Слушайте, я действительно хотела с вами встретиться. Мой муж знал
вашего покойного отца когда то на Днепре; мы часто о вас говорим, и я хотела
вас спросить: отчего вы, человек способный, околачиваетесь без профессии?
Для первого знакомства это был очень обидный вопрос; но у нее был
особый талант (потом еще в большей степени я нашел его у Маруси) говорить
самые неподходящие вещи как-то по-милому, словно ей все можно.
-- Без профессии? да ведь я уже сколько лет газетчик.
Она посмотрела на меня с неподдельным изумлением, словно бы я сказал,
что вот уже десять лет прыгаю на одной ноге.
-- Это ж не карьера. Писать можно еще год, еще два;
нельзя всю жизнь сочинять фельетоны, Игнац Альбертович (это мой муж)
охотно устроил бы вас у себя в конторе; или подумайте об адвокатуре; или
что-нибудь, только нельзя же болтаться человеку в воздухе без настоящего
заработка.
Я стал было доказывать питательные качества своего ремесла, но
почувствовал, что не поможет ему защита: в ее представлениях о социальной
лестнице просто не было для него ступени; в старину, говорят, так смотрели
все порядочные люди на актеров; или, может быть, это проявился атавизм
еврейский, и мое занятие казалось ей чем-то вроде профессии меламеда, за
которую берется человек потому, что ничего другого не нашлось. Я бросил
апологию и перешел в наступление:
-- Откровенность за откровенность. Я знаю двоих из ваших детей: эту
старшую барышню и Сережу. Скажите: как у них-то прививаются ваши
благоразумные советы? Оба они прелесть, но что то, боюсь, не в вашем
стиле...
-- О, это другое дело. Они мои дети; я скорее на крышу гулять полезу,
чем стану им советовать.
-- Как так?
-- Последний человек, которого люди слушают, это Мать;
или отец, все равно. В каждом поколении повторяется трагедия отцов и
детей, и всегда одна и та же: именно то, что проповедуют родители, в один
прекрасный день, оказывается, детям осточертело, заодно и родители
осточертели. Спасибо, не хочу.
"Умница дама", подумал я, и решил, что занятнее не проведу вечера, чем
с нею. Эта семья меня уже заинтересовала; я стал расспрашивать о ее детях,
она охотно рассказывала, минутами с такой откровенностью, которая и вчуже
меня бы резнула, если бы у нее все это не выходило "по милому".
Между танцами подбежала к нам Маруся; сказала мне, указывая на мать:
"берегитесь, она форменная деми-вьерж -- обворожить обворожит, а на роман не
согласится"; и тут же сообщила матери: "весь вечер танцую с Н. Н.; влюблена;
жаль, у него усы, но я надеюсь, что мягкие, царапать не будут", -- и
убежала.
-- От слова не станется, -- сказал я утешительно, думая, что Анна
Михайловна смущена конкретностью этого прогноза; но она ничуть не была
смущена.
-- У девушек этого поколения, что слово, что дело -- разница их не
пугает.
-- А вас?
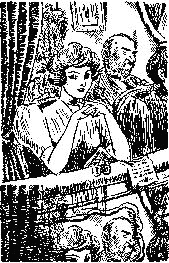 -- Всякая мать за всех детей тревожится; но меньше всего я тревожусь
именно за Марусю. Вы в детстве катались на гигантских шагах? Взлетаешь чуть
ли не до луны, падаешь как будто в пропасть -- но это все только так
кажется, а на самом деле есть привязь и прочная граница. У Маруси есть
граница, дальше которой ее никакие усы не оцарапают -- хотя я, конечно, не
хотела бы знать точно, где эта граница; -- но вот мой муж... Игнац
Альбертович был много старше, полный, с бритым подбородком, в очках; я и по
виду сказал бы, что хлебник -- так и оказалось. Судя по акценту, он в
русской школе не учился, но, невидимому, сам над собою поработал; особенно
усердно, как было еще принято в его поколении, читал немецких классиков --
впоследствии цитировал на память чуть ли не страницы из Берне, а из поэтов
особенно почему то любил Шамиссо и Ленау. В результате был на нем отчасти
тот неопределимый отпечаток, который мы передаем смешным словом
"интеллигент"; слово столь же зыбкого содержания, как у англичан
"джентльмен". У подлинного джентльмена могут быть невыносимо скверные
манеры, как и настоящий интеллигент может спокойно, даже зевнув, обнаружить
незнание Мопассана или Гегеля: дело тут не в реальных признаках, а в какой
то внутренней пропудренности культурой вообще. -- Но вместе с тем в Игнаце
Альбертовиче прежде всего чувствовался человек из мира "делов", знающий цену
вещам и людям и убежденный, что цена, вероятно, и есть самая сущность. Это
все я узнал после, когда сошелся с семьею, хотя и в той первой беседе мне
врезались в память некоторые его оценки.
Анна Михаиловна сразу ему пожаловалась, что я в контору не хочу, а
намерен "весь век остаться сочинителем".
-- Что ж, -- сказал он, -- молодой человек, очевидно, имеет свою
фантазию в жизни. У нашего сына Марко, что ни месяц, новая фантазия; я ему
всегда говорю: "С Богом, желаю успеха; только помни: если тебе удастся, я
скажу: молодец, я всегда предсказывал, что из него выйдет толк. А если
провалишься, я скажу: да разве я еще с его рождения не знал, что Марко
дурак?".
Я поблагодарил за науку, но предпочел опять перевести беседу подальше
от себя, на их собственных детей; это было нетрудно -- Анна Михайловна явно
любила эту тему, и муж ее тоже от нее не сторонился. Сережу они описали
точно таким, каким я его уже знал; Игнац Альбертович, протирая очки,
закрепил это описание формулой несколько неожиданной:
-- Вообще шарлатан; люблю шарлатанов.
Зато о Торике (его звали Виктор), самом младшем, Анна Михайловна
говорила почтительно: хорошо учится, много читает, ходит на гимнастику,
недурно играет на скрипке, вежлив, охотно услужлив; когда у матери было
воспаление легких, а Маруся тогда была за границей, Торик ходил за больною
лучше всякой сиделки.
-- Есть, -- сказал Игнац Альбертович, -- люди, которые любят суп с
лапшою, а есть и такие, что любят его с клецками. Это не просто, это два
характера. Лапша -- дело скользкое: если повезет, наберешь целую копну; но
есть и риск, что все соскользнет. А с клецками никакого беспокойства: больше
одной не выловишь, зато с мясом, и уж наверняка. У нас Сережа любит суп с
лапшею, а Торик с клецками.
Я долго смеялся, хотя слышал эту притчу и раньше, во многих версиях; но
он очень сочно все это изложил. Я спросил:
-- Теперь мне знакома вся галерея семейных портретов, но Сережа
говорил, что есть еще сестра -- Лика?
Анна Михайловна посмотрела на мужа, а он -- на пол, и сказал
раздумчиво:
-- Лика. Гм... Лика -- это не сюжет для разговора во время танцев.
Вскоре я стал частым гостем в их доме; и при этом, странно сказать, на
первых порах как бы потерял из виду самих хозяев дома -- мать и отца и
детей. Все они утонули в пестрой и шумной толчее марусиных "пассажиров";
прошло много недель, пока я сквозь этот тесный переплет посторонних людей
стал опять различать сначала Марусю, а потом и остальную семью.
В жизни я, ни до того, ни после, не видал такого гостеприимного дома.
Это не было русское гостеприимство, активно-радушное, милости просим. Тут
скорее приходилось припомнить слово из обряда еврейской Пасхи: "всякий, кому
угодно, да придет и ест". После я узнал, что Игнац Альбертович выражал эту
же мысль формулой на языке своего житомирского детства, и это была одна из
его любимых поговорок: "а гаст? мит-н коп ин ванд!", т. е. открой ему,
гостю, двери на звонок, скажи: вот стулья, а вот чай и сдобные булочки: и
больше ничего, не потчуй его, не заботься о нем, пусть делает, что угодно --
"хоть головой об стенку". Должен признаться, что это и в самом деле помогало
гостям сразу чувствовать себя, как дома.
Сквозь сумрак нескольких вечностей, пролетевших с той поры, я еще
некоторых помню; большей частью не по собственной их выпуклости, а скорее
при помощи сережиных рифмованных портретов. Почти все это были студенты:
было два-три экстерна, из тех, что носили тогда синие студенческие фуражки в
предвкушении грядущих достижений, хоть и очень проблематических из за
процентной нормы; были начинающие журналисты, уже знаменитые на
Дерибасовской улице; бывали, вероятно, и такие, которых даже Маруся точно по
имени не знала.
Помню двух явных белоподкладочников. Один из них был степенный и
благовоспитанный, вставлял французские слова, а по-русски пытался говорить
на московский лад; только буква "р" у него не выходила, но он объяснял это
тем, что "гувернантка акцент испохтила". Он готовил себя к карьере
административной или дипломатической, намекал, что религия не есть
препятствие, и писал на медаль сочинение на многообещающую тему о
желательности отмены конституции великого княжества Финляндского. Являясь к
Марусе, всегда подносил цветы; замужним дамам целовал ручки, а девицам --
нет, как полагается (мы все, неотесанные, целовали руку и Марусе; кто то
попробовал это проделать даже над семнадцатилетней Ликой, но жестоко
пострадал). Но Сережа его постиг, и портрет этого "пассажира" гласил:
Вошел, как бог, надушен бергамотом,
А в комнате запахло идиотом.
Второй был раздуханчик, румяненький, всегда счастливый, всегда с
улыбкой на все тридцать два зуба. "Папаша меня гнал в медики, в Харьков",
объяснил он однажды, -- "но я был неумолим: пойду только на один из
танцевальных факультетов -- или юридический, или филологический". Обожал
Одессу и всех не в Одессе родившихся презрительно называл "приезжие". С
Марусей он познакомился таким способом: она как то шла по улице одна, он
вдруг зашагал с нею рядом, снял фуражку и заявил, сверкая всеми зубами:
-- Мадмуазель, я -- дежурный член Общества для охраны одиноких девиц на
Ришельевской от нахалов.
Сережин портрет, скорее злой, и вообще я привожу его не без колебаний:
Он в комнату ворвался бурным штормом --
И в комнате запахло йодоформом.
Экстерны допускались только наиболее благообразные и наименее
глубокомысленные; собственно, только в этом доме я и видел таких. Вообще
экстерны тогда составляли в Одессе очень заметную группу населения; наезжали
из местечек близких и далеких, даже с Литвы ("выходцы из Пинского болота",
говорила Маруся), днем читали Тургенева и Туган-Барановского в городской
библиотеке, а по вечерам разносили по городу -- одни революцию, другие
сионизм. На экзаменах за шесть и восемь классов их нещадно проваливали;
многие давно махнули рукой, перестали зубрить и даже мечтать об
университете, но продолжали считаться "экстернами", точно это была сословная
каста. Вид у них был строгий и сосредоточенный, я их всегда боялся, читая в
их глазах библейский приговор: ты взвешен, взвешен -- и оказался легковесом.
Но к Марусе попадали только исключения из этого насупленного типа:
"умеренные экстерны", как она выражалась, ручные, с галстуками и даже в
крахмальных воротничках, и она, радея об их воспитании, старалась их отучить
от бесед на грузные темы из разных областей любомудрия. Тем не менее,
остальные "пассажиры" на них косились, а Сережа охотно "цитировал"
лингвистические жемчужины, якобы им почерпнутые из их сочинений, поданных на
последнем неудачном экзамене:
"Человечество давно уже заметило просветительное значение науки...".
"На поле битвы" (это был перевод с греческого) "раздавались стоны
гибнущих и гибнуемых...".
"Мать была поражена видеть сына бить отца...".
Был среди них, впрочем, и один неподкрашенный экстерн, как следует
быть, в косоворотке; но он приходил не к Марусе, а к Лике, и, как она,
волком смотрел на всех нас, и вообще скоро исчез из круга. Сережин отзыв
гласил:
Бог знает как одет, нечисто выбрит --
Того и глядь, он что-нибудь да стибрит.
Молодых журналистов я знал, конечно, и прежде. Один из них был тот
самый бытописатель босяков и порта, который тогда в театре сказал мне про
Марусю: котенок в муфте. Милый он был человек, и даровитый; и босяков знал
гораздо лучше, чем Горький, который, я подозреваю, никогда с ними по
настоящему и не жил, по крайней мере, не у нас на юге. Этот и в обиходе
говорил на ихнем языке -- Дульцинею сердца называл "бароха", свое пальто
"клифт" (или что то в этом роде), мои часики (у него не было) "бимбор", а
взаймы просил так: нема "фисташек"? Сережа считал его своим учителем, вообще
обожал, и упорно отказывался посвятить ему "портрет". Его все любили,
особенно из простонародья. Молдаванка и Пересыпь на eго рассказах,
по-видимому, впервые учились читать; в кофейне Амбарзаки раз подошла к нему
молоденькая кельнерша, расплакалась и сказала: -- Мусью, как вы щиро вчера
написали за "Анютку-Божемой"...
Другой носил тщательно растрепанные кудри и насаждал у нас в городе
декаданс; несколько мешало ему то, что он не знал ни одного иностранного
языка; зато с русским расправлялся бестрепетно, и одну свою статью
озаглавил: "У меня болит его голова". Он обильно цитировал из книги
"Единственный и его собственность", но однажды выяснилось, что он ее
приписывает Ницше; напечатал поэму в сто двадцать строк, но с подзаголовком
"сонет". Беспощадный Сережа обессмертил его так:
Он был изысканно, возвышенно духовен,
Но путал имена: Шпильгаген и Бетховен.
...Но это я еще и пятой, и десятой доли того населения не описал.
Присмотревшись к ним и, наконец, словно ежика в густой траве, различив
в центре Марусю, я залюбовался, как она ими всеми правит. Без усилий, даже
без внимания, без всяких попыток "занимать", одним внутренним магнетизмом.
Она не умела заразительно смеяться, у нее это выходило хрипло; по моему, и
говорила не так много -- да и где перекричать такую толпу! -- но от одного
ее присутствия всем становилось уютно и весело, и каждое слово каждого
казалось удивительно остроумным. Я субъект глухой к магнетизму: самый
любимый человек может два часа смотреть мне в затылок -- не почую и не
оглянусь; но помню такой случай: раз я пришел к ним, никого не застал, сел в
гостиной читать "Ниву" -- полчаса так прошло, и вдруг меня буквально залило
ощущением bien-être, словно в холодный день печку затопили, или вытекла
из глаза колючая пылинка: это вернулась Маруся, -- а я, зачитавшись, ни
звонка не слышал, ни шагов ее по ковру; и притом даже не был в нее влюблен
никогда. Просто "так", просто вошло с нею в гостиную что-то необычайно
хорошее.
Чем интимно были для нее эти "пассажиры", не знаю. Послушать ее -- чуть
ли не все, долго или мимолетно, озарены были по очереди ее щедрой милостью
до той самой "границы", точного местоположения которой предпочитала не знать
Анна Михайловна; и Маруся, когда я как то ей повторил эти слова матери,
посоветовала: "а вы маму успокойте: до диафрагмы". Однажды из другой комнаты
я услышал ее голос (она была в гостиной, и вокруг нее там гудело пять или
шесть баритонов): "ой, папа, не входи, я сижу у кого то на коленях -- не
помню у кого". Уходя вечером на музыку с румяным белоподкладочником, она при
мне оказала матери: "побегу переоденусь, невежливо идти в парк с кавалером в
блузке, которая застегивается сзади"; покраснел студент, а мудрая Анна
Михайловна откликнулась критически только в литературном смысле:
-- Односторонний у тебя стиль, Маруся.
Когда мы подружились, я раз наедине спросил: -- что это, Маруся, --
"стиль" такой, или взаправду правда?
Она отрезала:
-- Вас, газетчиков, я ведь не соблазняю, так вы и не беспокойтесь. --
Ну, а если бы и правда, так что?
-- Много их...
-- А вы на меня хорошо посмотрите, особенно в профиль убыло ?
В конце концов, не мое это было дело; а лучше Маруси я не встречал
девушек на свете. Не могу ее забыть; уже меня упрекали, что во всех моих,
между делом, налетах в беллетристику, так или иначе всегда выступает она, ее
нрав, ее безбожные правила сердечной жизни, ее красные волосы. Ничего не
могу поделать. Глядя на нее как то из угла в их гостиной, вдруг я вспомнил
слово Энрико Ферри, не помню о ком, слышанное когда то в Риме на лекции: che
bella pianta umana, "прекрасный росток человеческий"; и тогда я еще не знал,
какой воистину прекрасный, сколько стали под ее бархатом, и как это все
дико, страшно, чудовищно и возвышенно кончится.
-- Всякая мать за всех детей тревожится; но меньше всего я тревожусь
именно за Марусю. Вы в детстве катались на гигантских шагах? Взлетаешь чуть
ли не до луны, падаешь как будто в пропасть -- но это все только так
кажется, а на самом деле есть привязь и прочная граница. У Маруси есть
граница, дальше которой ее никакие усы не оцарапают -- хотя я, конечно, не
хотела бы знать точно, где эта граница; -- но вот мой муж... Игнац
Альбертович был много старше, полный, с бритым подбородком, в очках; я и по
виду сказал бы, что хлебник -- так и оказалось. Судя по акценту, он в
русской школе не учился, но, невидимому, сам над собою поработал; особенно
усердно, как было еще принято в его поколении, читал немецких классиков --
впоследствии цитировал на память чуть ли не страницы из Берне, а из поэтов
особенно почему то любил Шамиссо и Ленау. В результате был на нем отчасти
тот неопределимый отпечаток, который мы передаем смешным словом
"интеллигент"; слово столь же зыбкого содержания, как у англичан
"джентльмен". У подлинного джентльмена могут быть невыносимо скверные
манеры, как и настоящий интеллигент может спокойно, даже зевнув, обнаружить
незнание Мопассана или Гегеля: дело тут не в реальных признаках, а в какой
то внутренней пропудренности культурой вообще. -- Но вместе с тем в Игнаце
Альбертовиче прежде всего чувствовался человек из мира "делов", знающий цену
вещам и людям и убежденный, что цена, вероятно, и есть самая сущность. Это
все я узнал после, когда сошелся с семьею, хотя и в той первой беседе мне
врезались в память некоторые его оценки.
Анна Михаиловна сразу ему пожаловалась, что я в контору не хочу, а
намерен "весь век остаться сочинителем".
-- Что ж, -- сказал он, -- молодой человек, очевидно, имеет свою
фантазию в жизни. У нашего сына Марко, что ни месяц, новая фантазия; я ему
всегда говорю: "С Богом, желаю успеха; только помни: если тебе удастся, я
скажу: молодец, я всегда предсказывал, что из него выйдет толк. А если
провалишься, я скажу: да разве я еще с его рождения не знал, что Марко
дурак?".
Я поблагодарил за науку, но предпочел опять перевести беседу подальше
от себя, на их собственных детей; это было нетрудно -- Анна Михайловна явно
любила эту тему, и муж ее тоже от нее не сторонился. Сережу они описали
точно таким, каким я его уже знал; Игнац Альбертович, протирая очки,
закрепил это описание формулой несколько неожиданной:
-- Вообще шарлатан; люблю шарлатанов.
Зато о Торике (его звали Виктор), самом младшем, Анна Михайловна
говорила почтительно: хорошо учится, много читает, ходит на гимнастику,
недурно играет на скрипке, вежлив, охотно услужлив; когда у матери было
воспаление легких, а Маруся тогда была за границей, Торик ходил за больною
лучше всякой сиделки.
-- Есть, -- сказал Игнац Альбертович, -- люди, которые любят суп с
лапшою, а есть и такие, что любят его с клецками. Это не просто, это два
характера. Лапша -- дело скользкое: если повезет, наберешь целую копну; но
есть и риск, что все соскользнет. А с клецками никакого беспокойства: больше
одной не выловишь, зато с мясом, и уж наверняка. У нас Сережа любит суп с
лапшею, а Торик с клецками.
Я долго смеялся, хотя слышал эту притчу и раньше, во многих версиях; но
он очень сочно все это изложил. Я спросил:
-- Теперь мне знакома вся галерея семейных портретов, но Сережа
говорил, что есть еще сестра -- Лика?
Анна Михайловна посмотрела на мужа, а он -- на пол, и сказал
раздумчиво:
-- Лика. Гм... Лика -- это не сюжет для разговора во время танцев.
Вскоре я стал частым гостем в их доме; и при этом, странно сказать, на
первых порах как бы потерял из виду самих хозяев дома -- мать и отца и
детей. Все они утонули в пестрой и шумной толчее марусиных "пассажиров";
прошло много недель, пока я сквозь этот тесный переплет посторонних людей
стал опять различать сначала Марусю, а потом и остальную семью.
В жизни я, ни до того, ни после, не видал такого гостеприимного дома.
Это не было русское гостеприимство, активно-радушное, милости просим. Тут
скорее приходилось припомнить слово из обряда еврейской Пасхи: "всякий, кому
угодно, да придет и ест". После я узнал, что Игнац Альбертович выражал эту
же мысль формулой на языке своего житомирского детства, и это была одна из
его любимых поговорок: "а гаст? мит-н коп ин ванд!", т. е. открой ему,
гостю, двери на звонок, скажи: вот стулья, а вот чай и сдобные булочки: и
больше ничего, не потчуй его, не заботься о нем, пусть делает, что угодно --
"хоть головой об стенку". Должен признаться, что это и в самом деле помогало
гостям сразу чувствовать себя, как дома.
Сквозь сумрак нескольких вечностей, пролетевших с той поры, я еще
некоторых помню; большей частью не по собственной их выпуклости, а скорее
при помощи сережиных рифмованных портретов. Почти все это были студенты:
было два-три экстерна, из тех, что носили тогда синие студенческие фуражки в
предвкушении грядущих достижений, хоть и очень проблематических из за
процентной нормы; были начинающие журналисты, уже знаменитые на
Дерибасовской улице; бывали, вероятно, и такие, которых даже Маруся точно по
имени не знала.
Помню двух явных белоподкладочников. Один из них был степенный и
благовоспитанный, вставлял французские слова, а по-русски пытался говорить
на московский лад; только буква "р" у него не выходила, но он объяснял это
тем, что "гувернантка акцент испохтила". Он готовил себя к карьере
административной или дипломатической, намекал, что религия не есть
препятствие, и писал на медаль сочинение на многообещающую тему о
желательности отмены конституции великого княжества Финляндского. Являясь к
Марусе, всегда подносил цветы; замужним дамам целовал ручки, а девицам --
нет, как полагается (мы все, неотесанные, целовали руку и Марусе; кто то
попробовал это проделать даже над семнадцатилетней Ликой, но жестоко
пострадал). Но Сережа его постиг, и портрет этого "пассажира" гласил:
Вошел, как бог, надушен бергамотом,
А в комнате запахло идиотом.
Второй был раздуханчик, румяненький, всегда счастливый, всегда с
улыбкой на все тридцать два зуба. "Папаша меня гнал в медики, в Харьков",
объяснил он однажды, -- "но я был неумолим: пойду только на один из
танцевальных факультетов -- или юридический, или филологический". Обожал
Одессу и всех не в Одессе родившихся презрительно называл "приезжие". С
Марусей он познакомился таким способом: она как то шла по улице одна, он
вдруг зашагал с нею рядом, снял фуражку и заявил, сверкая всеми зубами:
-- Мадмуазель, я -- дежурный член Общества для охраны одиноких девиц на
Ришельевской от нахалов.
Сережин портрет, скорее злой, и вообще я привожу его не без колебаний:
Он в комнату ворвался бурным штормом --
И в комнате запахло йодоформом.
Экстерны допускались только наиболее благообразные и наименее
глубокомысленные; собственно, только в этом доме я и видел таких. Вообще
экстерны тогда составляли в Одессе очень заметную группу населения; наезжали
из местечек близких и далеких, даже с Литвы ("выходцы из Пинского болота",
говорила Маруся), днем читали Тургенева и Туган-Барановского в городской
библиотеке, а по вечерам разносили по городу -- одни революцию, другие
сионизм. На экзаменах за шесть и восемь классов их нещадно проваливали;
многие давно махнули рукой, перестали зубрить и даже мечтать об
университете, но продолжали считаться "экстернами", точно это была сословная
каста. Вид у них был строгий и сосредоточенный, я их всегда боялся, читая в
их глазах библейский приговор: ты взвешен, взвешен -- и оказался легковесом.
Но к Марусе попадали только исключения из этого насупленного типа:
"умеренные экстерны", как она выражалась, ручные, с галстуками и даже в
крахмальных воротничках, и она, радея об их воспитании, старалась их отучить
от бесед на грузные темы из разных областей любомудрия. Тем не менее,
остальные "пассажиры" на них косились, а Сережа охотно "цитировал"
лингвистические жемчужины, якобы им почерпнутые из их сочинений, поданных на
последнем неудачном экзамене:
"Человечество давно уже заметило просветительное значение науки...".
"На поле битвы" (это был перевод с греческого) "раздавались стоны
гибнущих и гибнуемых...".
"Мать была поражена видеть сына бить отца...".
Был среди них, впрочем, и один неподкрашенный экстерн, как следует
быть, в косоворотке; но он приходил не к Марусе, а к Лике, и, как она,
волком смотрел на всех нас, и вообще скоро исчез из круга. Сережин отзыв
гласил:
Бог знает как одет, нечисто выбрит --
Того и глядь, он что-нибудь да стибрит.
Молодых журналистов я знал, конечно, и прежде. Один из них был тот
самый бытописатель босяков и порта, который тогда в театре сказал мне про
Марусю: котенок в муфте. Милый он был человек, и даровитый; и босяков знал
гораздо лучше, чем Горький, который, я подозреваю, никогда с ними по
настоящему и не жил, по крайней мере, не у нас на юге. Этот и в обиходе
говорил на ихнем языке -- Дульцинею сердца называл "бароха", свое пальто
"клифт" (или что то в этом роде), мои часики (у него не было) "бимбор", а
взаймы просил так: нема "фисташек"? Сережа считал его своим учителем, вообще
обожал, и упорно отказывался посвятить ему "портрет". Его все любили,
особенно из простонародья. Молдаванка и Пересыпь на eго рассказах,
по-видимому, впервые учились читать; в кофейне Амбарзаки раз подошла к нему
молоденькая кельнерша, расплакалась и сказала: -- Мусью, как вы щиро вчера
написали за "Анютку-Божемой"...
Другой носил тщательно растрепанные кудри и насаждал у нас в городе
декаданс; несколько мешало ему то, что он не знал ни одного иностранного
языка; зато с русским расправлялся бестрепетно, и одну свою статью
озаглавил: "У меня болит его голова". Он обильно цитировал из книги
"Единственный и его собственность", но однажды выяснилось, что он ее
приписывает Ницше; напечатал поэму в сто двадцать строк, но с подзаголовком
"сонет". Беспощадный Сережа обессмертил его так:
Он был изысканно, возвышенно духовен,
Но путал имена: Шпильгаген и Бетховен.
...Но это я еще и пятой, и десятой доли того населения не описал.
Присмотревшись к ним и, наконец, словно ежика в густой траве, различив
в центре Марусю, я залюбовался, как она ими всеми правит. Без усилий, даже
без внимания, без всяких попыток "занимать", одним внутренним магнетизмом.
Она не умела заразительно смеяться, у нее это выходило хрипло; по моему, и
говорила не так много -- да и где перекричать такую толпу! -- но от одного
ее присутствия всем становилось уютно и весело, и каждое слово каждого
казалось удивительно остроумным. Я субъект глухой к магнетизму: самый
любимый человек может два часа смотреть мне в затылок -- не почую и не
оглянусь; но помню такой случай: раз я пришел к ним, никого не застал, сел в
гостиной читать "Ниву" -- полчаса так прошло, и вдруг меня буквально залило
ощущением bien-être, словно в холодный день печку затопили, или вытекла
из глаза колючая пылинка: это вернулась Маруся, -- а я, зачитавшись, ни
звонка не слышал, ни шагов ее по ковру; и притом даже не был в нее влюблен
никогда. Просто "так", просто вошло с нею в гостиную что-то необычайно
хорошее.
Чем интимно были для нее эти "пассажиры", не знаю. Послушать ее -- чуть
ли не все, долго или мимолетно, озарены были по очереди ее щедрой милостью
до той самой "границы", точного местоположения которой предпочитала не знать
Анна Михайловна; и Маруся, когда я как то ей повторил эти слова матери,
посоветовала: "а вы маму успокойте: до диафрагмы". Однажды из другой комнаты
я услышал ее голос (она была в гостиной, и вокруг нее там гудело пять или
шесть баритонов): "ой, папа, не входи, я сижу у кого то на коленях -- не
помню у кого". Уходя вечером на музыку с румяным белоподкладочником, она при
мне оказала матери: "побегу переоденусь, невежливо идти в парк с кавалером в
блузке, которая застегивается сзади"; покраснел студент, а мудрая Анна
Михайловна откликнулась критически только в литературном смысле:
-- Односторонний у тебя стиль, Маруся.
Когда мы подружились, я раз наедине спросил: -- что это, Маруся, --
"стиль" такой, или взаправду правда?
Она отрезала:
-- Вас, газетчиков, я ведь не соблазняю, так вы и не беспокойтесь. --
Ну, а если бы и правда, так что?
-- Много их...
-- А вы на меня хорошо посмотрите, особенно в профиль убыло ?
В конце концов, не мое это было дело; а лучше Маруси я не встречал
девушек на свете. Не могу ее забыть; уже меня упрекали, что во всех моих,
между делом, налетах в беллетристику, так или иначе всегда выступает она, ее
нрав, ее безбожные правила сердечной жизни, ее красные волосы. Ничего не
могу поделать. Глядя на нее как то из угла в их гостиной, вдруг я вспомнил
слово Энрико Ферри, не помню о ком, слышанное когда то в Риме на лекции: che
bella pianta umana, "прекрасный росток человеческий"; и тогда я еще не знал,
какой воистину прекрасный, сколько стали под ее бархатом, и как это все
дико, страшно, чудовищно и возвышенно кончится.
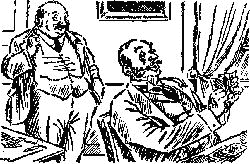 Конечно, была в этом доме и другая жизнь, помимо старшей дочери и
собиравшейся у нее ватаги; только очень казалась она заслоненной, и сам
Игнац Альбертович говорил о себе и жене и гостях не марусиных: -- Мы --
вторая гарнитура... Между тем вышло так, что в дальнейшем ходе разных
ответвлений этой веселой и горькой истории тем "заслоненным" достались
видные роли; надо и их помянуть.
Были "Нюра и Нюта" -- мать и дочь; дочь называла мамашу по имени.
Собственно звали старшую даму Анной, а девицу Ноэми -- на библейском имени
настоял отец; он же, говорят, очень сердился за то, что мать и дочь, хотя бы
неофициально, слывут как будто тезками наперекор еврейской традиции; но с
ним мало считались, человек он был застенчивый, молчаливый, и часто уезжал
по делам. Нюра и Нюта не только себе клички придумали похожие -- они и
одевались одинаково, и причесывались друг под друга и всегда были
неразлучны. Кажется, они и губы подкрашивали -- серьезная в те годы
уголовщина. "В Нюре с Нютой есть что-то порочное", уверяла Маруся; а Сережа
их, напротив, защищал следующим образом: "Ничего подобного, просто дурака
валяют"; причем этот обмен мнений произошел в присутствии самих Нюры и Нюты
и моем и еще всякого разного народу, и никто не обиделся, только мать и
дочь, сидевшие рядом, повернули друг к другу лица под одним и тем же углом и
улыбнулись друг дружке одной и той же стороною губ. -- Дочери было,
вероятно, лет двадцать пять, она формально считалась приходившей к Марусе (у
которой вообще бывало много и женской молодежи); мать ее числилась, конечно,
гостьей Анны Михайловны; но впечатление было такое, будто Нюра и Нюта, где
бы ни были, всегда, собственно, делают визиты друг другу.
Еще бывал там один гость, не разобраться чей; меня с ним раза три
знакомили, пока я его заметил. Был это дальний племянник Анны Михайловны,
уже взрослым юношей прибывший из местечка на Днепре; теперь ему было,
по-видимому, лет двадцать восемь, не меньше. Он называл хозяев "дядя" и
"тетя", со всеми детьми был на ты, но этим близость и ограничивалась;
приходил часто, но ни в каких общих затеях, играх, прогулках не участвовал;
все так привыкли к его пассивному присутствию, что оно уже никого не
стесняло, ни хозяев, ни гостей, ни его самого. Я попробовал однажды с ним
разговориться, но успеха не имел; только вынес впечатление, что он и меня и
всю компанию презирает, и вообще мужчина угрюмый и не очень
доброжелательный. Фамилия у него была странная -- Козодой; в семье называли
его Самойло; он имел звание помощника провизора и служил в аптекарском
магазине, а слова "аптекарский магазин" произносил оба с ударениями на
предпоследнем слоге. Кто то пустил слух, будто он влюблен в Марусю; но все
они были в нее влюблены, и меньше всего был похож на вздыхателя именно
Самойло -- кажется, даже не заговаривал с нею, а на ее редкие обращения
отвечал равнодушно и деловито, не поощряя к продолжению беседы. Еще помню:
говорили, что он о своем ремесле держится очень высокого мнения и называет
себя не фармацевт, а фармаколог; Сережа это выговаривал: "фармаколух".
Затем помню еще двух родственников, между собою братьев, совсем
пожилых; старшего звали Абрам Моисеевич, второго Борис Маврикиевич, и это
различие в стилизации одного и того же отчества определяло многое в их
несходной натуре. Старший, старик богатый, любил щеголять первобытной своей
неотесанностью. Все ходячие престарелые словечки и остроты на эту тему я
слышал от него. "Образование?" -- говорил он, вытаскивая бумажник: "вот мое
образование". Или: "Убеждения? вот...". Или: "Что, Игнац, твой Марко опять
остался на второй год? Это ты дурак, а не он. Мой Сема тоже лентяй, но я что
делаю? .Перед экзаменами встречаю в клубе его директора и говорю прямо: г.
Суббоцкий, держу с вами пари на пятьсот, что мой сын опять застрянет. -- И
дело в шляпе". Брата своего Бориса Маврикиевича он терпеть не мог, всячески
ему досаждал; за глаза называл его "этот шмендрик", а в глаза на людях не
Борис, но "Бенреш".
Борис Маврикиевич был всего лет на пять моложе, но воспитан был или сам
себя воспитал совсем по иному. Выражался правильно по-русски, а оттенки
акцента сглаживал тем, что в присутствии русских старался говорить басом
(это, говорят, помогает). Много лет назад, принимая грязевые ванны на
Хаджибейском лимане, он познакомился с писателем Данилевским; тот ему
подарил на память свой роман "Девятый вал", и Борис Маврикиевич оттуда
всегда цитировал места, подходящие к теме данной беседы. Более того: когда в
кредитном обществе, где он и брат его Абрам Моисеевич оба состояли членами
правления, появился вдруг некий строптивый пайщик и произвел не помню какой
скандал в годовом собрании, -- я сам слышал, вот этими ушами, как Борис
Маврикиевич о нем отозвался: "Это Робеспьер какой то; кончит тем, что и его
какая-нибудь Шарлотта застрелит в бане". Росту он был богатырского, грудь
носил колесом; раз я встретил его на Дерибасовской, в сизой крылатке вроде
офицерской, а на голове у него была самая подлинная дворянская фуражка с
красным околышком, и общий эффект был отменно православный. Он носил
бакенбарды в полщеки, а подбородок брил ежедневно, с синевой, и по пятницам
приходила к нему маникюрша.
В клубе он играл в винт исключительно с чиновниками -- тут то и любил
старший брат подойти и сказать во всеуслышание: "Бейреш, пора домой, твоя
жена Фейгеле беспокоится", -- а тот был холостяк, и никакой Фейгеле и на
свете не было.
Смешили они меня до умору; но в одном должен признаться -- эти двое, и
с ними еще Игнац Альбертович, первые мне показали то, что потом в жизни
много раз еще подтвердилось: что гораздо любопытнее говорить с купцами, чем
с профессиональными интеллигентами. В естественном кругу моем я встречался
больше с литераторами и адвокатами: потолковав о книгах, больше не о чем
бывало нам беседовать, разве что рассказывать анекдоты судебные или
редакционные. Но когда те три "хлебника", уставши от вечной игры в очко и в
шестьдесят шесть, клали локти на стол и начинали пересуживать свои биржевые
дела, я невольно заслушивался, и мне на час открывался весь божий мир и чем
он живет. По тысячам дорог Украины скрипят телеги, хохлы кричат на волов
"цоб-цобе", -- это везут зерно со всех сторон к пристаням кормильца-Днепра,
и жизнь сорока миллионов зависит от того, какие будут в этом сезоне отмечены
в бюллетене одесского гоф-маклера ставки на ульку или сандомирку. Но и эти
ставки зависят от того, оправдаются ли тревожные слухи, будто султан хочет
опять закрыть Дарданеллы; а слухи пошли из за каких то событий в Индии или в
Персии, и как то связаны с этим и Франц-Иосиф, и императрица Мария
Федоровна, и французский премьер Комб, и еще, и еще. Обо всем этом они
говорили не вчуже, не просто как читатели газет, а запальчиво, как о деталях
собственного кровного предприятия; одних царей одобряли, других ругали, и о
тех и других как будто что то знали такое, чего нигде не вычитаешь.
Подтверждалось это мое впечатление также и тем еще, как тесно
подружился с Абрамом Моисеевичем юнейший в доме Торик: Торик, несмотря на
великую свою обходительность со всеми людьми без различия, не стал бы терять
времени на разговоры, лишенные поучительности. Старик у него просиживал
часами: хотя у Марко с Сережей была комната общая, Торику отвели, конечно,
отдельную. Раза два и я напросился третьим в их беседу; в самом деле,
занимательно и сочно рассказывал старик о Севастопольской кампании, о смерти
Линкольна, о парижской коммуне, о Скобелеве, о процессе Желябова, о Буланже
и тому подобных явлениях из хроники черноморской хлеботорговли. Но помню,
что больше всего при этом мне импонировал не Абрам Моисеевич, а Торик; еще
точнее -- не сам Торик, который слушал и молчал, а его комната. Она была вся
заставлена книгами, отражавшими разные стадии его духовного развития.
"Задушевное Слово", "Родник", "Вокруг Света" и так дальше до ежемесячника
"Мир Божий" -- все в сохранности, в комплектах, в переплетах; русские
классики; целая полка Bibliothèque Rose и всяческих Moreeaux Choisis;
даже, к моему изумлению, "История" Греца, единственная книга еврейского
содержания во всем доме. Письменный стол содержался в порядке; правильным
столбиком лежали школьные тетради в голубых обложках, из каждой свешивалась
цветная ленточка, приклеенная облатками и к обложке, и к промокашке; на
стене висело расписание уроков...
А однажды случилось так: Анна Михайловна, когда мальчиков не было дома,
попросила меня принести ей словарь Макарова с полки у Торика, но я ошибся
дверью и попал в комнату, где еще никогда не был. Полагалось бы сейчас же
отступить, но я про это забыл, так меня разом удивила обстановка и атмосфера
той комнаты. Словно из другого дома: железная кровать, два некрашенных
стула, облупленный умывальник, на нем гребешок, мыло и зубная щетка и больше
ничего. На столе валялись книжки; заглавий я не мог прочесть с порога, но
узнал их по формату -- эту словесность тогда просто называли "брошюрами", и
о том же ходе мысли говорил прибитый кнопками к обоям портрет Лассаля.
Подивившись на все это, я закрыл дверь, разыскал у Торика словарь, понес его
Анне Михайловне и в коридоре встретил Лику: глядя прямо перед собою, она
тщательно отвела плечо, чтобы я как-нибудь не задел ее за форменный
темно-зеленый рукав, и прошла в ту комнату к себе.
Летом Мильгромы жили на Среднем Фонтане. Дача находилась на десятой
станции: достаточно для старого туземца назвать этот номер, чтобы восстала
из забвения пред очами души его одна из характернейших картин нашего
тогдашнего быта.
Если бы мне поручено было написать монографию о десятой станции, я бы
начал издалека, и с сюжета чрезвычайно поэтического. Много раз уже, начал бы
я, воспевали художники слова таинственную влекущую силу ночного серебряного
светила, которой, говорят, послушны морские приливы (на Черном море высота
прилива около вершка, но это к делу не относится). Зато, насколько знаю,
никем еще не воспет притягательный магнетизм светила дневного; а между тем,
есть в природе одно существо, которое не только имя свое и самый облик
заимствовало у солнца, но и активно правит ему свое богослужение от восхода
до заката, все время поворачиваясь лицом к колеснице жизнедателя Феба, и т.
д. -- От подсолнечника монография перешла бы к его семенам и подробно
остановилась бы на значении этого института, не с точки зрения ботаники, ни
даже гастрономии, но с точки зрения социальной. Символ плебейства, с
презрением скажут хулители; но это не так просто. На десятой станции я видел
не раз, как самые утонченные формации человеческие, модницы, директора
банков, жандармские ротмистры, подписчики толстых журналов, отрясая кандалы
цивилизации, брали в левую руку "фунтик" из просаленной бумаги, двумя
перстами правой почерпали из него замкнутый в серо-полосатую кобуру поцелуй
солнца, и изысканный разговор их, из нестройной городской прозы, превращался
в мерную скандированную речь с частыми цезурами, в виде пауз для сплевывания
лушпайки. Этот обряд объединял все классы, барыню и горничную, паныча и
дворника; и должна же быть некая особая тайная природная доблесть в тех
точках земной поверхности, где совершается такое социальное чудо, -- где
обнажается подоплека человеческая, вечно та же под всей пестротой классовых
пиджаков и интеллектуальных плюмажей, и, на призыв дачного солнца,
откликается изо всех уст единый всеобщий подкожный мещанин... Впрочем, это
наблюдалось, главным образом, после заката упомянутого светила, так что
символизм той монографии вряд ли удалось бы выдержать последовательно; но
основная мысль ее, настаиваю, верна. Характернейшей чертою десятой станции
было то, что все там лузгали "семочки" (никогда и никто у нас этого слова
иначе не произносил), и любили это занятие, и несметными толпами ежевечерне
стекались туда на соборный этот обряд, и под аккомпанемент его заключали
договоры, обсуждали идеи, изливали влюбленную душу и молили о взаимности...
Сюда я, с разрешения хозяев, привез однажды знакомого живописца. У нас
была в городе дружная компания художников-южан; общий приятель наш,
известный в те годы поэт, драматург и беллетрист, описал ее когда то под
кличкой "двенадцать журавлей"; дважды в месяц они пьяно и весело ужинали в
одном из греческих ресторанчиков, позади Городского театра, скупо допуская в
свою среду иногда и писателей; меня пускали по ходатайству того драматурга,
"за любовь к Италии", и под условием (после одного опыта) "никогда не писать
в газете о картинах". Один из них, увидав меня как то на спектакле в ложе у
Анны Михайловны, попросил: -- познакомьте меня: интересные головы у всей
этой семьи. -- Я сообразил, что множественное число -- только для отвода
глаз, а зарисовать ему хочется Марусю.
Но, сидя у них за столом, он вдруг обратился к Анне Михайловне громко,
с деловитой откровенностью специалиста, говорящего о своей специальности:
-- Что за неслыханная красавица ваша младшая дочь!
Конечно, была в этом доме и другая жизнь, помимо старшей дочери и
собиравшейся у нее ватаги; только очень казалась она заслоненной, и сам
Игнац Альбертович говорил о себе и жене и гостях не марусиных: -- Мы --
вторая гарнитура... Между тем вышло так, что в дальнейшем ходе разных
ответвлений этой веселой и горькой истории тем "заслоненным" достались
видные роли; надо и их помянуть.
Были "Нюра и Нюта" -- мать и дочь; дочь называла мамашу по имени.
Собственно звали старшую даму Анной, а девицу Ноэми -- на библейском имени
настоял отец; он же, говорят, очень сердился за то, что мать и дочь, хотя бы
неофициально, слывут как будто тезками наперекор еврейской традиции; но с
ним мало считались, человек он был застенчивый, молчаливый, и часто уезжал
по делам. Нюра и Нюта не только себе клички придумали похожие -- они и
одевались одинаково, и причесывались друг под друга и всегда были
неразлучны. Кажется, они и губы подкрашивали -- серьезная в те годы
уголовщина. "В Нюре с Нютой есть что-то порочное", уверяла Маруся; а Сережа
их, напротив, защищал следующим образом: "Ничего подобного, просто дурака
валяют"; причем этот обмен мнений произошел в присутствии самих Нюры и Нюты
и моем и еще всякого разного народу, и никто не обиделся, только мать и
дочь, сидевшие рядом, повернули друг к другу лица под одним и тем же углом и
улыбнулись друг дружке одной и той же стороною губ. -- Дочери было,
вероятно, лет двадцать пять, она формально считалась приходившей к Марусе (у
которой вообще бывало много и женской молодежи); мать ее числилась, конечно,
гостьей Анны Михайловны; но впечатление было такое, будто Нюра и Нюта, где
бы ни были, всегда, собственно, делают визиты друг другу.
Еще бывал там один гость, не разобраться чей; меня с ним раза три
знакомили, пока я его заметил. Был это дальний племянник Анны Михайловны,
уже взрослым юношей прибывший из местечка на Днепре; теперь ему было,
по-видимому, лет двадцать восемь, не меньше. Он называл хозяев "дядя" и
"тетя", со всеми детьми был на ты, но этим близость и ограничивалась;
приходил часто, но ни в каких общих затеях, играх, прогулках не участвовал;
все так привыкли к его пассивному присутствию, что оно уже никого не
стесняло, ни хозяев, ни гостей, ни его самого. Я попробовал однажды с ним
разговориться, но успеха не имел; только вынес впечатление, что он и меня и
всю компанию презирает, и вообще мужчина угрюмый и не очень
доброжелательный. Фамилия у него была странная -- Козодой; в семье называли
его Самойло; он имел звание помощника провизора и служил в аптекарском
магазине, а слова "аптекарский магазин" произносил оба с ударениями на
предпоследнем слоге. Кто то пустил слух, будто он влюблен в Марусю; но все
они были в нее влюблены, и меньше всего был похож на вздыхателя именно
Самойло -- кажется, даже не заговаривал с нею, а на ее редкие обращения
отвечал равнодушно и деловито, не поощряя к продолжению беседы. Еще помню:
говорили, что он о своем ремесле держится очень высокого мнения и называет
себя не фармацевт, а фармаколог; Сережа это выговаривал: "фармаколух".
Затем помню еще двух родственников, между собою братьев, совсем
пожилых; старшего звали Абрам Моисеевич, второго Борис Маврикиевич, и это
различие в стилизации одного и того же отчества определяло многое в их
несходной натуре. Старший, старик богатый, любил щеголять первобытной своей
неотесанностью. Все ходячие престарелые словечки и остроты на эту тему я
слышал от него. "Образование?" -- говорил он, вытаскивая бумажник: "вот мое
образование". Или: "Убеждения? вот...". Или: "Что, Игнац, твой Марко опять
остался на второй год? Это ты дурак, а не он. Мой Сема тоже лентяй, но я что
делаю? .Перед экзаменами встречаю в клубе его директора и говорю прямо: г.
Суббоцкий, держу с вами пари на пятьсот, что мой сын опять застрянет. -- И
дело в шляпе". Брата своего Бориса Маврикиевича он терпеть не мог, всячески
ему досаждал; за глаза называл его "этот шмендрик", а в глаза на людях не
Борис, но "Бенреш".
Борис Маврикиевич был всего лет на пять моложе, но воспитан был или сам
себя воспитал совсем по иному. Выражался правильно по-русски, а оттенки
акцента сглаживал тем, что в присутствии русских старался говорить басом
(это, говорят, помогает). Много лет назад, принимая грязевые ванны на
Хаджибейском лимане, он познакомился с писателем Данилевским; тот ему
подарил на память свой роман "Девятый вал", и Борис Маврикиевич оттуда
всегда цитировал места, подходящие к теме данной беседы. Более того: когда в
кредитном обществе, где он и брат его Абрам Моисеевич оба состояли членами
правления, появился вдруг некий строптивый пайщик и произвел не помню какой
скандал в годовом собрании, -- я сам слышал, вот этими ушами, как Борис
Маврикиевич о нем отозвался: "Это Робеспьер какой то; кончит тем, что и его
какая-нибудь Шарлотта застрелит в бане". Росту он был богатырского, грудь
носил колесом; раз я встретил его на Дерибасовской, в сизой крылатке вроде
офицерской, а на голове у него была самая подлинная дворянская фуражка с
красным околышком, и общий эффект был отменно православный. Он носил
бакенбарды в полщеки, а подбородок брил ежедневно, с синевой, и по пятницам
приходила к нему маникюрша.
В клубе он играл в винт исключительно с чиновниками -- тут то и любил
старший брат подойти и сказать во всеуслышание: "Бейреш, пора домой, твоя
жена Фейгеле беспокоится", -- а тот был холостяк, и никакой Фейгеле и на
свете не было.
Смешили они меня до умору; но в одном должен признаться -- эти двое, и
с ними еще Игнац Альбертович, первые мне показали то, что потом в жизни
много раз еще подтвердилось: что гораздо любопытнее говорить с купцами, чем
с профессиональными интеллигентами. В естественном кругу моем я встречался
больше с литераторами и адвокатами: потолковав о книгах, больше не о чем
бывало нам беседовать, разве что рассказывать анекдоты судебные или
редакционные. Но когда те три "хлебника", уставши от вечной игры в очко и в
шестьдесят шесть, клали локти на стол и начинали пересуживать свои биржевые
дела, я невольно заслушивался, и мне на час открывался весь божий мир и чем
он живет. По тысячам дорог Украины скрипят телеги, хохлы кричат на волов
"цоб-цобе", -- это везут зерно со всех сторон к пристаням кормильца-Днепра,
и жизнь сорока миллионов зависит от того, какие будут в этом сезоне отмечены
в бюллетене одесского гоф-маклера ставки на ульку или сандомирку. Но и эти
ставки зависят от того, оправдаются ли тревожные слухи, будто султан хочет
опять закрыть Дарданеллы; а слухи пошли из за каких то событий в Индии или в
Персии, и как то связаны с этим и Франц-Иосиф, и императрица Мария
Федоровна, и французский премьер Комб, и еще, и еще. Обо всем этом они
говорили не вчуже, не просто как читатели газет, а запальчиво, как о деталях
собственного кровного предприятия; одних царей одобряли, других ругали, и о
тех и других как будто что то знали такое, чего нигде не вычитаешь.
Подтверждалось это мое впечатление также и тем еще, как тесно
подружился с Абрамом Моисеевичем юнейший в доме Торик: Торик, несмотря на
великую свою обходительность со всеми людьми без различия, не стал бы терять
времени на разговоры, лишенные поучительности. Старик у него просиживал
часами: хотя у Марко с Сережей была комната общая, Торику отвели, конечно,
отдельную. Раза два и я напросился третьим в их беседу; в самом деле,
занимательно и сочно рассказывал старик о Севастопольской кампании, о смерти
Линкольна, о парижской коммуне, о Скобелеве, о процессе Желябова, о Буланже
и тому подобных явлениях из хроники черноморской хлеботорговли. Но помню,
что больше всего при этом мне импонировал не Абрам Моисеевич, а Торик; еще
точнее -- не сам Торик, который слушал и молчал, а его комната. Она была вся
заставлена книгами, отражавшими разные стадии его духовного развития.
"Задушевное Слово", "Родник", "Вокруг Света" и так дальше до ежемесячника
"Мир Божий" -- все в сохранности, в комплектах, в переплетах; русские
классики; целая полка Bibliothèque Rose и всяческих Moreeaux Choisis;
даже, к моему изумлению, "История" Греца, единственная книга еврейского
содержания во всем доме. Письменный стол содержался в порядке; правильным
столбиком лежали школьные тетради в голубых обложках, из каждой свешивалась
цветная ленточка, приклеенная облатками и к обложке, и к промокашке; на
стене висело расписание уроков...
А однажды случилось так: Анна Михайловна, когда мальчиков не было дома,
попросила меня принести ей словарь Макарова с полки у Торика, но я ошибся
дверью и попал в комнату, где еще никогда не был. Полагалось бы сейчас же
отступить, но я про это забыл, так меня разом удивила обстановка и атмосфера
той комнаты. Словно из другого дома: железная кровать, два некрашенных
стула, облупленный умывальник, на нем гребешок, мыло и зубная щетка и больше
ничего. На столе валялись книжки; заглавий я не мог прочесть с порога, но
узнал их по формату -- эту словесность тогда просто называли "брошюрами", и
о том же ходе мысли говорил прибитый кнопками к обоям портрет Лассаля.
Подивившись на все это, я закрыл дверь, разыскал у Торика словарь, понес его
Анне Михайловне и в коридоре встретил Лику: глядя прямо перед собою, она
тщательно отвела плечо, чтобы я как-нибудь не задел ее за форменный
темно-зеленый рукав, и прошла в ту комнату к себе.
Летом Мильгромы жили на Среднем Фонтане. Дача находилась на десятой
станции: достаточно для старого туземца назвать этот номер, чтобы восстала
из забвения пред очами души его одна из характернейших картин нашего
тогдашнего быта.
Если бы мне поручено было написать монографию о десятой станции, я бы
начал издалека, и с сюжета чрезвычайно поэтического. Много раз уже, начал бы
я, воспевали художники слова таинственную влекущую силу ночного серебряного
светила, которой, говорят, послушны морские приливы (на Черном море высота
прилива около вершка, но это к делу не относится). Зато, насколько знаю,
никем еще не воспет притягательный магнетизм светила дневного; а между тем,
есть в природе одно существо, которое не только имя свое и самый облик
заимствовало у солнца, но и активно правит ему свое богослужение от восхода
до заката, все время поворачиваясь лицом к колеснице жизнедателя Феба, и т.
д. -- От подсолнечника монография перешла бы к его семенам и подробно
остановилась бы на значении этого института, не с точки зрения ботаники, ни
даже гастрономии, но с точки зрения социальной. Символ плебейства, с
презрением скажут хулители; но это не так просто. На десятой станции я видел
не раз, как самые утонченные формации человеческие, модницы, директора
банков, жандармские ротмистры, подписчики толстых журналов, отрясая кандалы
цивилизации, брали в левую руку "фунтик" из просаленной бумаги, двумя
перстами правой почерпали из него замкнутый в серо-полосатую кобуру поцелуй
солнца, и изысканный разговор их, из нестройной городской прозы, превращался
в мерную скандированную речь с частыми цезурами, в виде пауз для сплевывания
лушпайки. Этот обряд объединял все классы, барыню и горничную, паныча и
дворника; и должна же быть некая особая тайная природная доблесть в тех
точках земной поверхности, где совершается такое социальное чудо, -- где
обнажается подоплека человеческая, вечно та же под всей пестротой классовых
пиджаков и интеллектуальных плюмажей, и, на призыв дачного солнца,
откликается изо всех уст единый всеобщий подкожный мещанин... Впрочем, это
наблюдалось, главным образом, после заката упомянутого светила, так что
символизм той монографии вряд ли удалось бы выдержать последовательно; но
основная мысль ее, настаиваю, верна. Характернейшей чертою десятой станции
было то, что все там лузгали "семочки" (никогда и никто у нас этого слова
иначе не произносил), и любили это занятие, и несметными толпами ежевечерне
стекались туда на соборный этот обряд, и под аккомпанемент его заключали
договоры, обсуждали идеи, изливали влюбленную душу и молили о взаимности...
Сюда я, с разрешения хозяев, привез однажды знакомого живописца. У нас
была в городе дружная компания художников-южан; общий приятель наш,
известный в те годы поэт, драматург и беллетрист, описал ее когда то под
кличкой "двенадцать журавлей"; дважды в месяц они пьяно и весело ужинали в
одном из греческих ресторанчиков, позади Городского театра, скупо допуская в
свою среду иногда и писателей; меня пускали по ходатайству того драматурга,
"за любовь к Италии", и под условием (после одного опыта) "никогда не писать
в газете о картинах". Один из них, увидав меня как то на спектакле в ложе у
Анны Михайловны, попросил: -- познакомьте меня: интересные головы у всей
этой семьи. -- Я сообразил, что множественное число -- только для отвода
глаз, а зарисовать ему хочется Марусю.
Но, сидя у них за столом, он вдруг обратился к Анне Михайловне громко,
с деловитой откровенностью специалиста, говорящего о своей специальности:
-- Что за неслыханная красавица ваша младшая дочь!
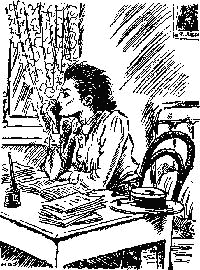 Мы все, человек десять за столом, изумленно обернулись на Лику. Никогда
ни одному из нас это в голову не приходило; вероятно, и родным ее тоже. Лика
была едва ли не просто неряха, волосы скручивала редькой на макушке, и то
редька всегда сползала на бок; она грызла ногти, и чулки у нее, плохо
натянутые, морщились гармоникой из под не совсем еще длинной юбки. Главное
-- вся повадка ее, чужая и резкая, не вязалась с представлением о
привлекательности, -- не взбредет же на ум человеку присмотреться, длинные
ли ресницы у городового. Посвященный ей Сережей "портрет" начинался так:
Велика штука -- не язык, а пика:
А ну-ка уко-лика, злюка Лика!
А прав был художник, я теперь увидел. Странно: простая миловидность
сразу бросается в глаза, но настоящую большую красоту надо "открыть". Черные
волосы Лики, там, где не были растрепаны, отливали темной синевой,
точь-в-точь оттенка морской воды в тени между скалами в очень яркий день.
Синие были и глаза, в эту минуту с огромными злыми зрачками, и от ресниц
падала тень на полщеки. Лоб и нос составляли одну прямую черту, греческую,
почти без впадины; верхняя губа по рисунку напоминала геральдический лук,
нижняя чуть-чуть выдавалась в презрительном вызове навстречу обидчику. От
обиды она бросила ложку, и я увидел ее пальцы, как карандашики, длинные,
тонкие, прямые, на узкой длинной кисти; и даже обкусанные края не нарушали
овальной формы ногтей. Прежде, чем вскочить, она возмущенно подняла плечи, и
когда опустила их, я в первый раз увидал, что они, хоть и очень еще детские,
срисованы Богом с капитолийской Венеры -- наклонные, два бедра высокого
треугольника, без подушек у перехода в предплечья... Но ложка упала так, что
брызги борща со сметаной разлетелись по всем окрестным лицам; стул
повалился, когда она вскочила; и, не сказав ни слова, она ушла из столовой.
-- Вижу, -- вздохнул художник, -- не захочет барышня позировать.
Анна Михайловна была очень сконфужена и без конца извинялась; гость,
кажется, не обиделся, но почему то очень оскорбленным почувствовал себя я.
Если бы не то, что вообще я с Ликой никогда и двух слов не оказал, я бы в
тот же вечер постучался в ее камеру, вошел бы, не дождавшись "войдите", и
выбранил бы ее всеми словами, какие только в печати дозволены. Но случайно
эта возможность устроить ей сцену представилась мне через несколько дней.
Было это так: однажды ночью мы большой компанией взбирались по крутому
обрыву, гуськом, я предпоследний, а за мною Лика. Утром прошел дождь,
тропинка была еще рыхлая и скользкая. Из под ног у Лики вдруг выкатился
камень, она вскрикнула, села, и ее медленно потащило вниз. Я опустился,
нагнулся и схватил ее за руку.
-- Пустите руку, -- сказала она сердито.
Досада меня взяла; точно малого ребенка, я потащил ее вверх, и она,
словно и вправду упрямый ребенок, выворачивалась и локтем, и плечами, но
все-таки добралась до прочного устоя. Там я ее отпустил; она смотрела мимо,
тяжело дыша, и видно было, что в душе у нее происходит борьба: обругать ли?
сказать ли спасибо? Я отстранился, дал ей пройти вперед; она шагнула, слегка
вскрикнула и села, потирая щиколотку.
-- Не надо ждать, -- сказала она сквозь зубы, глядя все в сторону.
-- Пройдет, тогда и пойдем, -- ответил я с искренним бешенством. -- По
моим правилам не оставляют одной несовершеннолетнюю девицу, которая
вывихнула ногу, даже если она невоспитанная.
Длинная пауза; сверху и голосов уже не было слышно, спутники наши
перевалили через край обрыва. У меня отлегло раздражение, я рассмеялся и
спросил:
-- В чем дело, Лика; или, если угодно, в чем дело, Лидия Игнатьевна --
за что вы так меня возненавидели?
Она пожала плечами:
-- И не думала. Вы для меня просто не существуете. Ни вы, ни... -- Она
поискала слова и нашла целую тираду: -- ни вся эта орава бесполезных вокруг
Маруси, и Марко, и мамы.
-- От ликующих, праздно болтающих, уведи меня в стан погибающих?
-- Можете скалить зубы, мне и это все равно. И, во всяком случае, не в
стан "погибающих".
-- А каких?
Она опять передернула плечами и промолчала, растирая ногу. Полумесяц
светил ей прямо в лицо; очень прав был тот художник.
-- Знаете? -- заговорил я, -- раз, когда у вас было такое выражение
лица, Сережа подтолкнул меня и сказал: Жанна д'Арк слышит голоса.
Вдруг она повернулась ко мне и взглянула прямо в глаза, в первый раз и,
кажется, в последний за все наше знакомство; и невольно я вспомнил слово:
посмотрит -- рублем подарит. Не в смысле ласки или милости "подарок", взгляд
ее был чужой и ко мне совсем не относился: но предо мной открылось окошко в
незнакомый темный сад; и, несмотря на темноту, нельзя было не дать себе
отчета, что большой чей-то сад.
-- Вы меня вытащили, -- сказала она другим тоном, спокойно и учтиво, --
напрасно я на вас огрызнулась; в искупление -- я вам на этот раз отвечу
серьезно, хотя, вообще, право, незачем и не о чем нам разговаривать. Сережа,
если хотите, прав:
"голоса". Я их все время слышу, со всех сторон; они шепчут или кричат
одно и то же, одно слово.
Я ждал, какое, но ей, очевидно, трудно его было выговорить. Я
попробовал помочь:
-- "Хлеба"? "Спаси"?
Она покачала головой, все не сводя с меня повелительных синих глаз:
-- Даже невоспитанной барышне трудно произнести. -- "Сволочь".
Странно, меня не покоробило (хотя написать только что эти семь букв на
бумаге, я не сразу решился): грубое кабацкое слово донеслось из глубины того
чужого сада не руганью, а в каком то первобытном значении, точно вырвала она
его, на языке ветхозаветных отшельников, из затерянной гневной главы
Писания. Теперь мы смотрели друг другу в глаза уже без насмешки с моей
стороны и вызова с ее, серьезно и напряженно, два заклятых врага, которым
настал час договориться до конца.
-- Это вы о ком?
-- Обо всех и ни о ком. Вообще люди. Итог. -- Вы думали, что мои голоса
кричат "хлеба!" и просят: приди и спаси? Это вы мне много чести делаете, не
по заслугам: я-то знаю про голод и Сибирь и все ужасы, но мне никого не
жалко и никого я спасать не пойду, и меньше всего в стан погибающих.
-- Понял: в стан разрушающих? в стан сожигающих?
-- Если хватит меня, да.
-- Одна, без товарищей?
-- Поищу товарищей, когда окрепну.
-- Разве так ищут, каждого встречного заранее осуждая без допроса?
-- Неправда, я сразу делаю допрос, только вам не слышно. Я сразу
чувствую чужого.
Она подумала напряженно, потом сказала:
-- Трудно определить, но, может быть, критерий такой: есть люди с белой
памятью и есть с черной. Первые лучше всего запоминают из жизни хорошее,
оттого им весело... с Марусей, например. А злопамятные записывают только все
черное: "хорошее" у них само собою через час стирается с доски, да и совсем
оно для них и не было "хорошим". Я в каждом человеке сразу угадываю,
черно-памятный он или бело-памятный; незачем допрашивать. -- Теперь я уже
могу пойти, и буду на вас опираться, и наверху скажу спасибо, только уговор
-- как бы это выразить...
Я ей помог:
-- Будьте спокойны, обещаю и впредь обходить вас за версту.
Перед выездом на дачу произошло важное событие -- Марко получил,
наконец, аттестат зрелости. В их выпуске было, кроме него, еще несколько
закоснелых второгодников, поэтому освобождение от гимназического ига было
отпраздновано с исключительным треском. Мой коллега Штрок, король
полицейского репортажа в Одессе и на юге вообще, принес в редакцию
восторженное описание этой вакханалии; конечно не для печати, а просто из
принципа, дабы в редакции не забыли, что Штрок все знает. Выпуск в полном
составе явился в "Северную", славнейший кафешантан в городе, куда им еще
накануне, как гимназистам, строго запрещен был вход; и так они там нашумели,
что дежурный пристав (хотя по традиции на июньские подвиги абитуриентов, все
равно как на буйства новобранцев, полиция смотрела сквозь пальцы) не
выдержал и пригрозил участком; на что старейший из второгодников дал, по
словам Штрока, исторический ответ, с тех пор знаменитый в летописях
черноморского просвещения:
-- Помилуйте, г. пристав, -- раз в шестнадцать лет такая радость
случается!
Потрясенный этим монументальным рекордом, пристав сдался.
Мы все, человек десять за столом, изумленно обернулись на Лику. Никогда
ни одному из нас это в голову не приходило; вероятно, и родным ее тоже. Лика
была едва ли не просто неряха, волосы скручивала редькой на макушке, и то
редька всегда сползала на бок; она грызла ногти, и чулки у нее, плохо
натянутые, морщились гармоникой из под не совсем еще длинной юбки. Главное
-- вся повадка ее, чужая и резкая, не вязалась с представлением о
привлекательности, -- не взбредет же на ум человеку присмотреться, длинные
ли ресницы у городового. Посвященный ей Сережей "портрет" начинался так:
Велика штука -- не язык, а пика:
А ну-ка уко-лика, злюка Лика!
А прав был художник, я теперь увидел. Странно: простая миловидность
сразу бросается в глаза, но настоящую большую красоту надо "открыть". Черные
волосы Лики, там, где не были растрепаны, отливали темной синевой,
точь-в-точь оттенка морской воды в тени между скалами в очень яркий день.
Синие были и глаза, в эту минуту с огромными злыми зрачками, и от ресниц
падала тень на полщеки. Лоб и нос составляли одну прямую черту, греческую,
почти без впадины; верхняя губа по рисунку напоминала геральдический лук,
нижняя чуть-чуть выдавалась в презрительном вызове навстречу обидчику. От
обиды она бросила ложку, и я увидел ее пальцы, как карандашики, длинные,
тонкие, прямые, на узкой длинной кисти; и даже обкусанные края не нарушали
овальной формы ногтей. Прежде, чем вскочить, она возмущенно подняла плечи, и
когда опустила их, я в первый раз увидал, что они, хоть и очень еще детские,
срисованы Богом с капитолийской Венеры -- наклонные, два бедра высокого
треугольника, без подушек у перехода в предплечья... Но ложка упала так, что
брызги борща со сметаной разлетелись по всем окрестным лицам; стул
повалился, когда она вскочила; и, не сказав ни слова, она ушла из столовой.
-- Вижу, -- вздохнул художник, -- не захочет барышня позировать.
Анна Михайловна была очень сконфужена и без конца извинялась; гость,
кажется, не обиделся, но почему то очень оскорбленным почувствовал себя я.
Если бы не то, что вообще я с Ликой никогда и двух слов не оказал, я бы в
тот же вечер постучался в ее камеру, вошел бы, не дождавшись "войдите", и
выбранил бы ее всеми словами, какие только в печати дозволены. Но случайно
эта возможность устроить ей сцену представилась мне через несколько дней.
Было это так: однажды ночью мы большой компанией взбирались по крутому
обрыву, гуськом, я предпоследний, а за мною Лика. Утром прошел дождь,
тропинка была еще рыхлая и скользкая. Из под ног у Лики вдруг выкатился
камень, она вскрикнула, села, и ее медленно потащило вниз. Я опустился,
нагнулся и схватил ее за руку.
-- Пустите руку, -- сказала она сердито.
Досада меня взяла; точно малого ребенка, я потащил ее вверх, и она,
словно и вправду упрямый ребенок, выворачивалась и локтем, и плечами, но
все-таки добралась до прочного устоя. Там я ее отпустил; она смотрела мимо,
тяжело дыша, и видно было, что в душе у нее происходит борьба: обругать ли?
сказать ли спасибо? Я отстранился, дал ей пройти вперед; она шагнула, слегка
вскрикнула и села, потирая щиколотку.
-- Не надо ждать, -- сказала она сквозь зубы, глядя все в сторону.
-- Пройдет, тогда и пойдем, -- ответил я с искренним бешенством. -- По
моим правилам не оставляют одной несовершеннолетнюю девицу, которая
вывихнула ногу, даже если она невоспитанная.
Длинная пауза; сверху и голосов уже не было слышно, спутники наши
перевалили через край обрыва. У меня отлегло раздражение, я рассмеялся и
спросил:
-- В чем дело, Лика; или, если угодно, в чем дело, Лидия Игнатьевна --
за что вы так меня возненавидели?
Она пожала плечами:
-- И не думала. Вы для меня просто не существуете. Ни вы, ни... -- Она
поискала слова и нашла целую тираду: -- ни вся эта орава бесполезных вокруг
Маруси, и Марко, и мамы.
-- От ликующих, праздно болтающих, уведи меня в стан погибающих?
-- Можете скалить зубы, мне и это все равно. И, во всяком случае, не в
стан "погибающих".
-- А каких?
Она опять передернула плечами и промолчала, растирая ногу. Полумесяц
светил ей прямо в лицо; очень прав был тот художник.
-- Знаете? -- заговорил я, -- раз, когда у вас было такое выражение
лица, Сережа подтолкнул меня и сказал: Жанна д'Арк слышит голоса.
Вдруг она повернулась ко мне и взглянула прямо в глаза, в первый раз и,
кажется, в последний за все наше знакомство; и невольно я вспомнил слово:
посмотрит -- рублем подарит. Не в смысле ласки или милости "подарок", взгляд
ее был чужой и ко мне совсем не относился: но предо мной открылось окошко в
незнакомый темный сад; и, несмотря на темноту, нельзя было не дать себе
отчета, что большой чей-то сад.
-- Вы меня вытащили, -- сказала она другим тоном, спокойно и учтиво, --
напрасно я на вас огрызнулась; в искупление -- я вам на этот раз отвечу
серьезно, хотя, вообще, право, незачем и не о чем нам разговаривать. Сережа,
если хотите, прав:
"голоса". Я их все время слышу, со всех сторон; они шепчут или кричат
одно и то же, одно слово.
Я ждал, какое, но ей, очевидно, трудно его было выговорить. Я
попробовал помочь:
-- "Хлеба"? "Спаси"?
Она покачала головой, все не сводя с меня повелительных синих глаз:
-- Даже невоспитанной барышне трудно произнести. -- "Сволочь".
Странно, меня не покоробило (хотя написать только что эти семь букв на
бумаге, я не сразу решился): грубое кабацкое слово донеслось из глубины того
чужого сада не руганью, а в каком то первобытном значении, точно вырвала она
его, на языке ветхозаветных отшельников, из затерянной гневной главы
Писания. Теперь мы смотрели друг другу в глаза уже без насмешки с моей
стороны и вызова с ее, серьезно и напряженно, два заклятых врага, которым
настал час договориться до конца.
-- Это вы о ком?
-- Обо всех и ни о ком. Вообще люди. Итог. -- Вы думали, что мои голоса
кричат "хлеба!" и просят: приди и спаси? Это вы мне много чести делаете, не
по заслугам: я-то знаю про голод и Сибирь и все ужасы, но мне никого не
жалко и никого я спасать не пойду, и меньше всего в стан погибающих.
-- Понял: в стан разрушающих? в стан сожигающих?
-- Если хватит меня, да.
-- Одна, без товарищей?
-- Поищу товарищей, когда окрепну.
-- Разве так ищут, каждого встречного заранее осуждая без допроса?
-- Неправда, я сразу делаю допрос, только вам не слышно. Я сразу
чувствую чужого.
Она подумала напряженно, потом сказала:
-- Трудно определить, но, может быть, критерий такой: есть люди с белой
памятью и есть с черной. Первые лучше всего запоминают из жизни хорошее,
оттого им весело... с Марусей, например. А злопамятные записывают только все
черное: "хорошее" у них само собою через час стирается с доски, да и совсем
оно для них и не было "хорошим". Я в каждом человеке сразу угадываю,
черно-памятный он или бело-памятный; незачем допрашивать. -- Теперь я уже
могу пойти, и буду на вас опираться, и наверху скажу спасибо, только уговор
-- как бы это выразить...
Я ей помог:
-- Будьте спокойны, обещаю и впредь обходить вас за версту.
Перед выездом на дачу произошло важное событие -- Марко получил,
наконец, аттестат зрелости. В их выпуске было, кроме него, еще несколько
закоснелых второгодников, поэтому освобождение от гимназического ига было
отпраздновано с исключительным треском. Мой коллега Штрок, король
полицейского репортажа в Одессе и на юге вообще, принес в редакцию
восторженное описание этой вакханалии; конечно не для печати, а просто из
принципа, дабы в редакции не забыли, что Штрок все знает. Выпуск в полном
составе явился в "Северную", славнейший кафешантан в городе, куда им еще
накануне, как гимназистам, строго запрещен был вход; и так они там нашумели,
что дежурный пристав (хотя по традиции на июньские подвиги абитуриентов, все
равно как на буйства новобранцев, полиция смотрела сквозь пальцы) не
выдержал и пригрозил участком; на что старейший из второгодников дал, по
словам Штрока, исторический ответ, с тех пор знаменитый в летописях
черноморского просвещения:
-- Помилуйте, г. пристав, -- раз в шестнадцать лет такая радость
случается!
Потрясенный этим монументальным рекордом, пристав сдался.
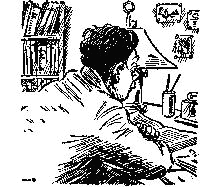 После этого я помню Марко с синей фуражкой на голове; но был ли под
этой фуражкой летний студенческий китель или просто пиджак, т. е. сразу ли
его, сквозь петли процентной нормы, приняли в университет, -- не могу
вспомнить. Это любопытно: биографию сестер и братьев Марко, насколько она
прошла в поле моего зрения или сведения, память моя сохранила, и внешность
их тоже, включая даже милые, но курьезные женские прически и платья того
десятилетия; а самого Марко я забыл. Ни роста его, ни носа его, ни воспетого
Сережей неряшества не запомнил. Когда очень стараюсь воссоздать его облик в
воображении, получаются все какие-то другие люди -- иногда я даже знаю их по
имени, иногда нет, но знаю, что не он. Знаю это по глазам: единственная
подробность его лица, которую могу описать; не цвет, но форму и выражение.
Очень круглые и очень на выкате глаза, добрые и привязчивые и (если можно
так назвать без обиды) навязчивые: голодный взгляд человека, всегда готового
не просто спросить, а именно расспросить, и всему, что получил в ответ,
поверить, поахать и удивиться.
В первый раз мы по душам поговорили еще когда он был гимназистом: он
подсел ко мне где то, или в гостях, или у них же дома.
-- Я вас не слишком стеснил бы, если бы попросил уделить мне
как-нибудь вечер наедине? Целый вечер?
-- Можно, сказал я; -- а позволите узнать, в чем будет дело?
-- Мне нужно, -- ответил он, вглядываясь круглыми глазами, --
расспросить вас об одной вещи: чего, собственно, хочет Ницше?
-- И тут же "пояснил": -- Потому что я, видите ли, убежденный
ницшеанец.
Я не удержался от иронического замечания:
-- Это что то не вяжется. Что вы ницшеанец, давно сказал мне Сережа; но
ведь первая для этого предпосылка -- знать, чего Ницше "хочет"...
Он нисколько не смутился -- напротив, объяснил очень искренно и по
своему логично:
-- Я его пробовал читать; у меня есть почти все, что вышло по-русски;
хотите, покажу. Я, вообще, видите ли, массу читаю; но так уж нелепо устроен
-- если сам читаю, главного никогда не могу понять; не только философию, но
даже стихи и беллетристику. Мне всегда нужен вожатый: он ткнет пальцем,
скажет: вот оно! -- и тогда мне сразу все открывается.
Тут он немного замялся и прибавил:
-- В семье у нас, и товарищи тоже, думают, видите ли, что я просто
дурак. Я в это не верю; но одно правда -- я не из тех людей, которым
полагается размышлять собственной головой. Я, видите ли, из тех людей,
которым полагается всегда прислушиваться.
Эта исповедь меня обезоружила и даже заинтересовала; но я все-таки еще
спросил:
-- Откуда же вы знаете, что вы уже ницшеанец?
-- А разве надо знать хорошо Библию, чтоб быть набожным? Я где то
слышал, что, напротив -- у католиков в старину будто бы запрещено было
мирянам читать Евангелие без помощи ксендза: чтобы вера не скисла.
Вечер я ему дал, это было нетрудно: мода на Ницше тогда только что
докатилась до России, о нем уже три доклада с прениями состоялись у нас в
"литературке"; книги его были у меня; все ли были тогда разрезаны, ручаться
не стану, но рассказать своими словами -- пожалуйста. Марко, в самом деле,
умел "прислушиваться"; и, хоть я сначала мысленно присоединился к мнению
семьи и товарищей, им же цитированному, вскоре, однако, начал сомневаться,
вполне ли это верно. Если и был он дурак, то не простой, a sui generis.
Собственно, и "семья" держалась того же квалифицированного взгляда; по
крайней мере отец. На эту тему Игнац Альбертович однажды прочитал мне вроде
лекции. Началось, помню, с того, что Марко что то где то напутал, отец был
недоволен, а Сережа старшим басом сказал брату:
-- Марко, Марко, что из тебя выйдет? Подумай только -- Александру
Македонскому в твоем возрасте было уже почти двадцать лет!!
После этого мы с Игнацом Альбертовичем остались одни, и вдруг он меня
спросил:
-- Задавались ли вы когда-нибудь мыслью о категориях понятия "дурак"?
Тут он и прочитал мне лекцию, предупредив, что классификация
принадлежит не ему, а почерпнута частью из любимых его немецко-еврейских
авторов, частью из фольклора волынского гетто, где он родился. Дураки,
например, бывают летние и зимние. Ты сидишь у себя в домике зимою, а на
улице вьюга, все трещит и хлопает: кажется тебе, что кто то постучался в
дверь, но ты не уверен -- может быть, просто ветер. Наконец, ты
откликаешься: войдите. Кто то вваливается в сени, весь закутанный, не
разберешь -- мужчина или женщина; фигура долго возится, развязывает башлык,
выпутывается из валенок -- и только тогда, в конце концов, ты узнаешь: перед
тобою дурак. Это -- зимний. Летний дурак зато впорхнет к тебе налегке, и ты
сразу видишь, кто он такой. -- Затем возможна и классификация по другому
признаку: бывает дурак пассивный и активный; первый сидит себе в углу и не
суется не в свои темы, и это часто даже тип очень уютный для сожительства, а
также иногда удачливый в смысле карьеры; зато второй удручающе неудобен.
-- Но этого недостаточно, -- закончил он, -- я чувствую, что нужен еще
третий какой-то метод классификации, скажем -- по обуви: одна категория
рождается со свинцовыми подошвами на ногах, никакими силами с места не
сдвинешь; а другая, напротив, в сандалиях с крылышками, на манер Меркурия...
или Марко?
После этого я помню Марко с синей фуражкой на голове; но был ли под
этой фуражкой летний студенческий китель или просто пиджак, т. е. сразу ли
его, сквозь петли процентной нормы, приняли в университет, -- не могу
вспомнить. Это любопытно: биографию сестер и братьев Марко, насколько она
прошла в поле моего зрения или сведения, память моя сохранила, и внешность
их тоже, включая даже милые, но курьезные женские прически и платья того
десятилетия; а самого Марко я забыл. Ни роста его, ни носа его, ни воспетого
Сережей неряшества не запомнил. Когда очень стараюсь воссоздать его облик в
воображении, получаются все какие-то другие люди -- иногда я даже знаю их по
имени, иногда нет, но знаю, что не он. Знаю это по глазам: единственная
подробность его лица, которую могу описать; не цвет, но форму и выражение.
Очень круглые и очень на выкате глаза, добрые и привязчивые и (если можно
так назвать без обиды) навязчивые: голодный взгляд человека, всегда готового
не просто спросить, а именно расспросить, и всему, что получил в ответ,
поверить, поахать и удивиться.
В первый раз мы по душам поговорили еще когда он был гимназистом: он
подсел ко мне где то, или в гостях, или у них же дома.
-- Я вас не слишком стеснил бы, если бы попросил уделить мне
как-нибудь вечер наедине? Целый вечер?
-- Можно, сказал я; -- а позволите узнать, в чем будет дело?
-- Мне нужно, -- ответил он, вглядываясь круглыми глазами, --
расспросить вас об одной вещи: чего, собственно, хочет Ницше?
-- И тут же "пояснил": -- Потому что я, видите ли, убежденный
ницшеанец.
Я не удержался от иронического замечания:
-- Это что то не вяжется. Что вы ницшеанец, давно сказал мне Сережа; но
ведь первая для этого предпосылка -- знать, чего Ницше "хочет"...
Он нисколько не смутился -- напротив, объяснил очень искренно и по
своему логично:
-- Я его пробовал читать; у меня есть почти все, что вышло по-русски;
хотите, покажу. Я, вообще, видите ли, массу читаю; но так уж нелепо устроен
-- если сам читаю, главного никогда не могу понять; не только философию, но
даже стихи и беллетристику. Мне всегда нужен вожатый: он ткнет пальцем,
скажет: вот оно! -- и тогда мне сразу все открывается.
Тут он немного замялся и прибавил:
-- В семье у нас, и товарищи тоже, думают, видите ли, что я просто
дурак. Я в это не верю; но одно правда -- я не из тех людей, которым
полагается размышлять собственной головой. Я, видите ли, из тех людей,
которым полагается всегда прислушиваться.
Эта исповедь меня обезоружила и даже заинтересовала; но я все-таки еще
спросил:
-- Откуда же вы знаете, что вы уже ницшеанец?
-- А разве надо знать хорошо Библию, чтоб быть набожным? Я где то
слышал, что, напротив -- у католиков в старину будто бы запрещено было
мирянам читать Евангелие без помощи ксендза: чтобы вера не скисла.
Вечер я ему дал, это было нетрудно: мода на Ницше тогда только что
докатилась до России, о нем уже три доклада с прениями состоялись у нас в
"литературке"; книги его были у меня; все ли были тогда разрезаны, ручаться
не стану, но рассказать своими словами -- пожалуйста. Марко, в самом деле,
умел "прислушиваться"; и, хоть я сначала мысленно присоединился к мнению
семьи и товарищей, им же цитированному, вскоре, однако, начал сомневаться,
вполне ли это верно. Если и был он дурак, то не простой, a sui generis.
Собственно, и "семья" держалась того же квалифицированного взгляда; по
крайней мере отец. На эту тему Игнац Альбертович однажды прочитал мне вроде
лекции. Началось, помню, с того, что Марко что то где то напутал, отец был
недоволен, а Сережа старшим басом сказал брату:
-- Марко, Марко, что из тебя выйдет? Подумай только -- Александру
Македонскому в твоем возрасте было уже почти двадцать лет!!
После этого мы с Игнацом Альбертовичем остались одни, и вдруг он меня
спросил:
-- Задавались ли вы когда-нибудь мыслью о категориях понятия "дурак"?
Тут он и прочитал мне лекцию, предупредив, что классификация
принадлежит не ему, а почерпнута частью из любимых его немецко-еврейских
авторов, частью из фольклора волынского гетто, где он родился. Дураки,
например, бывают летние и зимние. Ты сидишь у себя в домике зимою, а на
улице вьюга, все трещит и хлопает: кажется тебе, что кто то постучался в
дверь, но ты не уверен -- может быть, просто ветер. Наконец, ты
откликаешься: войдите. Кто то вваливается в сени, весь закутанный, не
разберешь -- мужчина или женщина; фигура долго возится, развязывает башлык,
выпутывается из валенок -- и только тогда, в конце концов, ты узнаешь: перед
тобою дурак. Это -- зимний. Летний дурак зато впорхнет к тебе налегке, и ты
сразу видишь, кто он такой. -- Затем возможна и классификация по другому
признаку: бывает дурак пассивный и активный; первый сидит себе в углу и не
суется не в свои темы, и это часто даже тип очень уютный для сожительства, а
также иногда удачливый в смысле карьеры; зато второй удручающе неудобен.
-- Но этого недостаточно, -- закончил он, -- я чувствую, что нужен еще
третий какой-то метод классификации, скажем -- по обуви: одна категория
рождается со свинцовыми подошвами на ногах, никакими силами с места не
сдвинешь; а другая, напротив, в сандалиях с крылышками, на манер Меркурия...
или Марко?
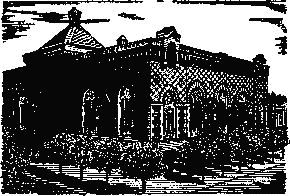 Еще как то наблюдал я его под Новый Год, на студенческом балу в
"мертвецкой". Бал всегда происходил в прекрасном дворце биржи (пышному слову
"дворец" никто из земляков моих тут не удивится, а с иноземцами я на эту
тему и объясняться не намерен). "Мертвецкой" называлась в этих случаях одна
из боковых зал, куда впускали только отборнейшую публику, отборнейшую в
смысле "передового" устремления души; и впускать начинали только с часу
ночи. Пили там солидно, под утро иные даже до истинного мертвецкого градуса;
но главный там запой был идейный и словесный. Хотя допускались и штатские,
массу, конечно, составляли студенты. Был стол марксистов и стол народников,
столы поляков, грузин, армян (столы сионистов и Бунда появились через
несколько лет, но в самые первые годы века я их еще не помню). За главным
столом сановито восседали факультетские и курсовые старосты, и к ним жалось
еще себя не определившее, внефракционное большинство. За каждым столом то
произносились речи, то пелись песни; в первые часы ораторы говорили с мест,
ближе к утру вылезали на стол; еще ближе к утру -- одновременно за тем же
столом проповедывали и со стола, и снизу, а аудитория пела. К этому времени
тактично исчезали популярные профессора, но в начале ночи и они принимали
перипатетическое участие в торжестве, переходя от стола к столу с краткими
импровизациями из неписанной хрестоматии застольного златоустия. "Товарищи
студенты, это шампанское -- слишком дорогое вино, чтобы пить его мне за вас,
тем более вам за меня. Выпьем за нечто высшее -- за то, чего мы все ждем с
году на год: да свершится оно в наступающем году"... "Коллеги, среди нас
находится публицист, труженик порабощенного слова: подымите бокалы за то,
чтобы слово стало свободным...".
В тот вечер пустили туда и Марко, -- хоть и тут я не помню, был ли он
уже тогда студентом. Вошел он нерешительно, не зная, куда притулиться; кто
то знакомый его подозвал к столу, где сидя и стоя толпились черноволосые
кавказцы -- издали не разобрать было, какой национальности -- там он уж и
остался на весь вечер. Оглядываясь на него от времени до времени, я видел,
что ему с ними совсем по себе: он подпевал, махал руками, кричал, поддакивал
ораторам, хотя большинство их там, кажется, говорило на родном своем языке.
Когда сам мало пьешь, любопытно и грустно следить, как заканчивается
разгульная ночь. Постепенно деревенеют мускулы зеленых или фиолетовых лиц,
застывают стекляшками глаза, мертвенно стукаются друг о друга шатающиеся,
как на подпорках, слова; на столах налито, у мужчин помяты воротнички и края
манжет замуслены, а кто во фраке, у тех сломаны спереди рубахи; вообще, все
уже стало погано, уже в дверях незримая стоит поденщица с ведром и половой
тряпкой... Удивительно, по моему, подходило к этой минуте там в мертвецкой
заключительное "Gaudeamus", самая заупокойная песня на свете.
Марко проводил меня домой; он тоже мало выпил, но был пьян от вина
духовного, и именно кахетинского. Он мурлыкал напев и слова "мравал
джамиэр"; два квартала подряд, никогда не видавши Кавказа, живописал
Военно-грузинскую дорогу и Тифлис; что то доказывал про царицу Тамару и
поэта Руставели... Лермонтов пишет: "бежали робкие грузины" -- что за
клевета на рыцарственное племя! Марко все уже знал о грузинском движении,
знал уже разницу между понятиями картвелы, имеретины, сванеты, лазы, даже и
языком уже овладел -- бездомную собачонку на углу поманил: "моди ак", потом
отогнал прочь: "цади!" (за точность не ручаюсь, так запомнилось); и закончил
вздохом из самой глубины души:
-- Глупо это: почему нельзя человеку взять, да объявить себя грузином?
Я расхохотался:
-- Марко, есть тут один доктор-сионист, у него горничная Гапка; раз она
подавала чай у них на собрании, а потом ее докторша спросила: как тебе
понравилось? А Гапка ответила, тоном благоговейной покорности року: що ж,
барыня, треба йихати до Палестыны!
Он обиделся; нашел, что это совсем не то, и вообще эта Гапка -- старый
анекдот, десять раз уже слышал.
-- Кстати, Марко, -- сказал я, зевая, -- если уж искать себе нацию,
отчего бы вам не приткнуться к сионистам?
Он на меня вытаращил круглые глаза с полным изумлением; ясно было по
этому взгляду, что даже в шутку, в пять часов утра, не может нормальный
человек договориться до такой беспредельной несуразности.
Теперь уже представлены читателю, на первом ли плане или мимоходом, все
пятеро; можно перейти к самой повести о том, что с ними произошло.
Месяцы шли; я уезжал и приезжал, часто надолго теряя семью Мильгром из
виду. От времени до времени где то стреляли в губернаторов, убивали
министров; удивительно, с какой беспримесной радостью принимались эти вести
всем обществом: теперь такое единодушие было бы в аналогичном случае
немыслимо -- впрочем, теперь и нет нигде oбстановки, вполне аналогичной. Но
для нашего рассказа одна только сторона этих событий существенна: то, что
эпоха "весны" -- на первых порах, с точки зрения таких, как я, сторонних
наблюдателей, веселая, безоблачная, мягкая, -- стала постепенно принимать
все более жестокий и лютый характер. С севера приходили вести о карательных
походах на целые губернии; уже ясно было, что одним "настроением" передового
общества да единичными пулями переродить государственный строй не удастся,
-- что и "весна" окажется массовой трагедией; только одного еще мы не
понимали -- что трагедия будет затяжной. -- Соответственно этому, на глазах
менялся и быт нашего города, еще недавно такой легкий и беззаботный.
Еще как то наблюдал я его под Новый Год, на студенческом балу в
"мертвецкой". Бал всегда происходил в прекрасном дворце биржи (пышному слову
"дворец" никто из земляков моих тут не удивится, а с иноземцами я на эту
тему и объясняться не намерен). "Мертвецкой" называлась в этих случаях одна
из боковых зал, куда впускали только отборнейшую публику, отборнейшую в
смысле "передового" устремления души; и впускать начинали только с часу
ночи. Пили там солидно, под утро иные даже до истинного мертвецкого градуса;
но главный там запой был идейный и словесный. Хотя допускались и штатские,
массу, конечно, составляли студенты. Был стол марксистов и стол народников,
столы поляков, грузин, армян (столы сионистов и Бунда появились через
несколько лет, но в самые первые годы века я их еще не помню). За главным
столом сановито восседали факультетские и курсовые старосты, и к ним жалось
еще себя не определившее, внефракционное большинство. За каждым столом то
произносились речи, то пелись песни; в первые часы ораторы говорили с мест,
ближе к утру вылезали на стол; еще ближе к утру -- одновременно за тем же
столом проповедывали и со стола, и снизу, а аудитория пела. К этому времени
тактично исчезали популярные профессора, но в начале ночи и они принимали
перипатетическое участие в торжестве, переходя от стола к столу с краткими
импровизациями из неписанной хрестоматии застольного златоустия. "Товарищи
студенты, это шампанское -- слишком дорогое вино, чтобы пить его мне за вас,
тем более вам за меня. Выпьем за нечто высшее -- за то, чего мы все ждем с
году на год: да свершится оно в наступающем году"... "Коллеги, среди нас
находится публицист, труженик порабощенного слова: подымите бокалы за то,
чтобы слово стало свободным...".
В тот вечер пустили туда и Марко, -- хоть и тут я не помню, был ли он
уже тогда студентом. Вошел он нерешительно, не зная, куда притулиться; кто
то знакомый его подозвал к столу, где сидя и стоя толпились черноволосые
кавказцы -- издали не разобрать было, какой национальности -- там он уж и
остался на весь вечер. Оглядываясь на него от времени до времени, я видел,
что ему с ними совсем по себе: он подпевал, махал руками, кричал, поддакивал
ораторам, хотя большинство их там, кажется, говорило на родном своем языке.
Когда сам мало пьешь, любопытно и грустно следить, как заканчивается
разгульная ночь. Постепенно деревенеют мускулы зеленых или фиолетовых лиц,
застывают стекляшками глаза, мертвенно стукаются друг о друга шатающиеся,
как на подпорках, слова; на столах налито, у мужчин помяты воротнички и края
манжет замуслены, а кто во фраке, у тех сломаны спереди рубахи; вообще, все
уже стало погано, уже в дверях незримая стоит поденщица с ведром и половой
тряпкой... Удивительно, по моему, подходило к этой минуте там в мертвецкой
заключительное "Gaudeamus", самая заупокойная песня на свете.
Марко проводил меня домой; он тоже мало выпил, но был пьян от вина
духовного, и именно кахетинского. Он мурлыкал напев и слова "мравал
джамиэр"; два квартала подряд, никогда не видавши Кавказа, живописал
Военно-грузинскую дорогу и Тифлис; что то доказывал про царицу Тамару и
поэта Руставели... Лермонтов пишет: "бежали робкие грузины" -- что за
клевета на рыцарственное племя! Марко все уже знал о грузинском движении,
знал уже разницу между понятиями картвелы, имеретины, сванеты, лазы, даже и
языком уже овладел -- бездомную собачонку на углу поманил: "моди ак", потом
отогнал прочь: "цади!" (за точность не ручаюсь, так запомнилось); и закончил
вздохом из самой глубины души:
-- Глупо это: почему нельзя человеку взять, да объявить себя грузином?
Я расхохотался:
-- Марко, есть тут один доктор-сионист, у него горничная Гапка; раз она
подавала чай у них на собрании, а потом ее докторша спросила: как тебе
понравилось? А Гапка ответила, тоном благоговейной покорности року: що ж,
барыня, треба йихати до Палестыны!
Он обиделся; нашел, что это совсем не то, и вообще эта Гапка -- старый
анекдот, десять раз уже слышал.
-- Кстати, Марко, -- сказал я, зевая, -- если уж искать себе нацию,
отчего бы вам не приткнуться к сионистам?
Он на меня вытаращил круглые глаза с полным изумлением; ясно было по
этому взгляду, что даже в шутку, в пять часов утра, не может нормальный
человек договориться до такой беспредельной несуразности.
Теперь уже представлены читателю, на первом ли плане или мимоходом, все
пятеро; можно перейти к самой повести о том, что с ними произошло.
Месяцы шли; я уезжал и приезжал, часто надолго теряя семью Мильгром из
виду. От времени до времени где то стреляли в губернаторов, убивали
министров; удивительно, с какой беспримесной радостью принимались эти вести
всем обществом: теперь такое единодушие было бы в аналогичном случае
немыслимо -- впрочем, теперь и нет нигде oбстановки, вполне аналогичной. Но
для нашего рассказа одна только сторона этих событий существенна: то, что
эпоха "весны" -- на первых порах, с точки зрения таких, как я, сторонних
наблюдателей, веселая, безоблачная, мягкая, -- стала постепенно принимать
все более жестокий и лютый характер. С севера приходили вести о карательных
походах на целые губернии; уже ясно было, что одним "настроением" передового
общества да единичными пулями переродить государственный строй не удастся,
-- что и "весна" окажется массовой трагедией; только одного еще мы не
понимали -- что трагедия будет затяжной. -- Соответственно этому, на глазах
менялся и быт нашего города, еще недавно такой легкий и беззаботный.
 Прежде всего я это заметил по личной эволюции одного скромного
гражданина: он состоял дворником нашего двора. Звали его Хома, и был он
чернобородый мужик из Херсонщины. Я в том доме жил давно, и с Хомой
поддерживал наилучшие отношения. По ночам, на мой звонок у ворот, он сейчас
же вылезал из своего подпольного логова, "одчинял фортку" -- т. е. калитку
-- и, приемля гривенник, вежливо, как бы ни был заспан, кивал чуприной и
говорил: -- Мерси вам, паныч. -- Если, войдя на кухню, кто либо из домашних
заставал его в рукопашном общении с хорошенькой нашей горничной Мотрей, он
быстро от нее отстранялся, снимал картуз и смущенно докладывал, что визит
его объясняется заботой о наших же интересах -- побачить, например, чи труба
не дымить, или чи вьюшки не спорчены. Словом, это был прежде нормальный
обыватель из трудового сословия, сам жил и другим давал жить, и никаких
притязаний на высоты командной позиции не предъявлял.
Но постепенно стала в нем намечаться психологическая перемена. Первой,
помню, отметила ее Мотря. Раз как то не хватило дров: ей сказали, как
всегда, попросить дворника, чтобы поднял из погреба охапку: она сбегала во
двор и, вернувшись, доложила:
-- Фомы Гаврилыча нема: воны ушедши.
Я даже не сразу понял, о ком она говорит; особенно потрясло меня
деепричастие вместо простого прошедшего. Мотря, до нас служившая у генерала,
точно соблюдала эти глагольные тонкости и всегда оттеняла, что прачка
"ушла", а барыня -- "ушедши". Я смутно ощутил, что в общественном положении
нашего дворника совершается какой то процесс возвышения.
После этого я лично стал наблюдать тревожные признаки. Ночью
приходилось простаивать у ворот, топая озябшими ногами, и пять минут, и
десять. Получая традиционный гривенник, Хома теперь уже нередко подносил
монету к глазам и рассматривал ее, в тусклом освещении подворотни, с таким
выражением, которое ясно говорило, что традиция не есть еще ограничительный
закон. Свою формулу благодарности он стал постепенно сокращать: "мерси,
паныч", потом просто "спасибо" -- причем, опять таки, не только опущение
титула, но и переход с французского языка на отечественный звучал
многозначительно. Однажды, продержав меня чуть не полчаса на морозе, он мне
даже сделал замечание: -- тут, паныч, не церква, щоб так трезвонить! -- А в
следующий раз, покачав головою, отозвался назидательно: -- поздно гуляете,
то и для здоровья шкода!
Кончилось тем, что я, по робости натуры, звонил один раз и покорно
ждал; гривенник заменил пятиалтынным; сам, вручая монету, произносил
"спасибо", а Хома в ответ иногда буркал что то нечленораздельное, а иногда
ничего. Но не в этом суть: много характернее для охватившей империю огневицы
(как солнце в капле, отражалась тогда империя в моем дворнике) было то, что
Хома с каждой неделей становился все более значительным фактором моей жизни.
Я ощущал Хому все время, словно не удавшийся дантисту вставной зуб. Он уже
давно не сочувствовал, когда у меня собирались гости: однажды позвонил в
половине двенадцатого и спросил у Мотри, чи то не заседание, бо за пивом не
послали, и шо-то не слышно, шоб спивали, як усегда. В другой раз забрал мою
почту у письмоносца и, передавая пачку мне, заметил пронзительно:
-- Заграничные газеты получаете?
Я поделился этими наблюдениями со знакомыми:
все их подтвердили. Дворницкое сословие стремительно повышалось в чине
и влиянии, превращалось в основной стержень аппарата государственной власти.
Гражданин думал, будто он штурмует бастионы самодержавия;
на самом деле, осаду крепостей вело начальство, -- миллионов крепостей,
каждого дома, и авангард осаждающей армии уже сидел в подвальных своих
окопах по ею сторону ворот.
Любопытно было и ночное оживление на улицах. Несмотря на всю нашу
столичную спесь, мы привыкли к тому, что в два часа ночи, когда
возвращаешься домой с дружеской беседы, никого на улицах нет, и утешали
муниципальное самолюбие наше ссылкой на Вену, где люди тоже рано ложатся
спать. Но теперь я почти еженощно в эти часы где-нибудь наталкивался на
молчаливое шествие: впереди жандармский ротмистр, за ним свойственная ему
свита -- и уж где то некий другой Хома, или мой собственный, загодя
предупрежденный о назначенном обыске, ждал, не засыпая, властного звонка, и
уже завербовал приятеля на амплуа второго понятого.
С другой стороны слышно было и видно; что и осажденные готовятся к
вылазке. Слышно: во вcем городе шептались, что предстоит "демонстрация". Что
такое демонстрация, никто точно не знал -- никогда не видал ее ии сам, ни
дед его; именно поэтому чудилось, что прогулка ста юношей и девиц по
мостовой на Дерибасовской улице с красным знаменем во главе будет для врага
ударом неслыханной силы, от которого задрожат и дворцы, и тюрьмы. Народный
шепот несколько раз даже называл точный месяц и число того воскресенья,
когда разразится эта бомба; покамест еще, однако, невпопад. Но уже ясно
было, кто будут участники этого грозного похода с Соборной площади на угол
Ришельевской улицы: они так отчетливо бросались в глаза на каждом шагу, и
молодые люди, и девицы, словно бы уже заранее для этого облеклись в какую то
особенную форменную одежду.
Впрочем, это и была почти форменная одежда: не в смысле покроя и цвета,
а в смысле общего какого то стиля. Об экстернах я уже говорил; теперь, в еще
большем, пожалуй, количестве, появились в обиходе их духовные подруги.
Сережа первый принес в нашу среду сборное имя, которым (он божился) их
обозначали заглазно даже собственные товарищи, хотя я долго подозревал, что
кличку придумал он сам: "дрипка", от слова "задрипанный", которого, кажется,
нет еще и в последнем издании словаря Даля. Соломенная шляпка мужского
покроя в виде тарелки, всегда плохо приколотая и съезжавшая на бок, причем
носительница от времени до времени подталкивала ее на место указательным
пальцем; блузка того кроя, который тогда назывался английским, с высоким
отложным воротником и с галстуком, пропущенным в кольцо -- но часто без
галстука и без кольца; юбка на кнопках сбоку, но одной по крайней мере
кнопки обязательно всегда не хватало; башмаки с оборванными шнурками,
переплетенными не через те крючки, что надо, и на башмаках семидневная пыль
всех степей Черноморья; надо всем этим иногда очки в проволочной оправе, и
почти всегда розовая печать хронического насморка.
-- А ты не смейся, -- выговаривал мне приятель, бывший мой
одноклассник, которого потом повесили под Петербургом на Лисьем Носу. -- Ты
их только мысленно переодень и увидишь, кто они такие: дочери библейской
Юдифи.
-- Юдифь? -- рассмеялся, когда я это ему повторил, Сережа. -- А вы на
походку посмотрите. Самое главное в человеке -- походка: ее не переоденешь.
Юдифь шествовала, а эти бегут.
Прежде всего я это заметил по личной эволюции одного скромного
гражданина: он состоял дворником нашего двора. Звали его Хома, и был он
чернобородый мужик из Херсонщины. Я в том доме жил давно, и с Хомой
поддерживал наилучшие отношения. По ночам, на мой звонок у ворот, он сейчас
же вылезал из своего подпольного логова, "одчинял фортку" -- т. е. калитку
-- и, приемля гривенник, вежливо, как бы ни был заспан, кивал чуприной и
говорил: -- Мерси вам, паныч. -- Если, войдя на кухню, кто либо из домашних
заставал его в рукопашном общении с хорошенькой нашей горничной Мотрей, он
быстро от нее отстранялся, снимал картуз и смущенно докладывал, что визит
его объясняется заботой о наших же интересах -- побачить, например, чи труба
не дымить, или чи вьюшки не спорчены. Словом, это был прежде нормальный
обыватель из трудового сословия, сам жил и другим давал жить, и никаких
притязаний на высоты командной позиции не предъявлял.
Но постепенно стала в нем намечаться психологическая перемена. Первой,
помню, отметила ее Мотря. Раз как то не хватило дров: ей сказали, как
всегда, попросить дворника, чтобы поднял из погреба охапку: она сбегала во
двор и, вернувшись, доложила:
-- Фомы Гаврилыча нема: воны ушедши.
Я даже не сразу понял, о ком она говорит; особенно потрясло меня
деепричастие вместо простого прошедшего. Мотря, до нас служившая у генерала,
точно соблюдала эти глагольные тонкости и всегда оттеняла, что прачка
"ушла", а барыня -- "ушедши". Я смутно ощутил, что в общественном положении
нашего дворника совершается какой то процесс возвышения.
После этого я лично стал наблюдать тревожные признаки. Ночью
приходилось простаивать у ворот, топая озябшими ногами, и пять минут, и
десять. Получая традиционный гривенник, Хома теперь уже нередко подносил
монету к глазам и рассматривал ее, в тусклом освещении подворотни, с таким
выражением, которое ясно говорило, что традиция не есть еще ограничительный
закон. Свою формулу благодарности он стал постепенно сокращать: "мерси,
паныч", потом просто "спасибо" -- причем, опять таки, не только опущение
титула, но и переход с французского языка на отечественный звучал
многозначительно. Однажды, продержав меня чуть не полчаса на морозе, он мне
даже сделал замечание: -- тут, паныч, не церква, щоб так трезвонить! -- А в
следующий раз, покачав головою, отозвался назидательно: -- поздно гуляете,
то и для здоровья шкода!
Кончилось тем, что я, по робости натуры, звонил один раз и покорно
ждал; гривенник заменил пятиалтынным; сам, вручая монету, произносил
"спасибо", а Хома в ответ иногда буркал что то нечленораздельное, а иногда
ничего. Но не в этом суть: много характернее для охватившей империю огневицы
(как солнце в капле, отражалась тогда империя в моем дворнике) было то, что
Хома с каждой неделей становился все более значительным фактором моей жизни.
Я ощущал Хому все время, словно не удавшийся дантисту вставной зуб. Он уже
давно не сочувствовал, когда у меня собирались гости: однажды позвонил в
половине двенадцатого и спросил у Мотри, чи то не заседание, бо за пивом не
послали, и шо-то не слышно, шоб спивали, як усегда. В другой раз забрал мою
почту у письмоносца и, передавая пачку мне, заметил пронзительно:
-- Заграничные газеты получаете?
Я поделился этими наблюдениями со знакомыми:
все их подтвердили. Дворницкое сословие стремительно повышалось в чине
и влиянии, превращалось в основной стержень аппарата государственной власти.
Гражданин думал, будто он штурмует бастионы самодержавия;
на самом деле, осаду крепостей вело начальство, -- миллионов крепостей,
каждого дома, и авангард осаждающей армии уже сидел в подвальных своих
окопах по ею сторону ворот.
Любопытно было и ночное оживление на улицах. Несмотря на всю нашу
столичную спесь, мы привыкли к тому, что в два часа ночи, когда
возвращаешься домой с дружеской беседы, никого на улицах нет, и утешали
муниципальное самолюбие наше ссылкой на Вену, где люди тоже рано ложатся
спать. Но теперь я почти еженощно в эти часы где-нибудь наталкивался на
молчаливое шествие: впереди жандармский ротмистр, за ним свойственная ему
свита -- и уж где то некий другой Хома, или мой собственный, загодя
предупрежденный о назначенном обыске, ждал, не засыпая, властного звонка, и
уже завербовал приятеля на амплуа второго понятого.
С другой стороны слышно было и видно; что и осажденные готовятся к
вылазке. Слышно: во вcем городе шептались, что предстоит "демонстрация". Что
такое демонстрация, никто точно не знал -- никогда не видал ее ии сам, ни
дед его; именно поэтому чудилось, что прогулка ста юношей и девиц по
мостовой на Дерибасовской улице с красным знаменем во главе будет для врага
ударом неслыханной силы, от которого задрожат и дворцы, и тюрьмы. Народный
шепот несколько раз даже называл точный месяц и число того воскресенья,
когда разразится эта бомба; покамест еще, однако, невпопад. Но уже ясно
было, кто будут участники этого грозного похода с Соборной площади на угол
Ришельевской улицы: они так отчетливо бросались в глаза на каждом шагу, и
молодые люди, и девицы, словно бы уже заранее для этого облеклись в какую то
особенную форменную одежду.
Впрочем, это и была почти форменная одежда: не в смысле покроя и цвета,
а в смысле общего какого то стиля. Об экстернах я уже говорил; теперь, в еще
большем, пожалуй, количестве, появились в обиходе их духовные подруги.
Сережа первый принес в нашу среду сборное имя, которым (он божился) их
обозначали заглазно даже собственные товарищи, хотя я долго подозревал, что
кличку придумал он сам: "дрипка", от слова "задрипанный", которого, кажется,
нет еще и в последнем издании словаря Даля. Соломенная шляпка мужского
покроя в виде тарелки, всегда плохо приколотая и съезжавшая на бок, причем
носительница от времени до времени подталкивала ее на место указательным
пальцем; блузка того кроя, который тогда назывался английским, с высоким
отложным воротником и с галстуком, пропущенным в кольцо -- но часто без
галстука и без кольца; юбка на кнопках сбоку, но одной по крайней мере
кнопки обязательно всегда не хватало; башмаки с оборванными шнурками,
переплетенными не через те крючки, что надо, и на башмаках семидневная пыль
всех степей Черноморья; надо всем этим иногда очки в проволочной оправе, и
почти всегда розовая печать хронического насморка.
-- А ты не смейся, -- выговаривал мне приятель, бывший мой
одноклассник, которого потом повесили под Петербургом на Лисьем Носу. -- Ты
их только мысленно переодень и увидишь, кто они такие: дочери библейской
Юдифи.
-- Юдифь? -- рассмеялся, когда я это ему повторил, Сережа. -- А вы на
походку посмотрите. Самое главное в человеке -- походка: ее не переоденешь.
Юдифь шествовала, а эти бегут.
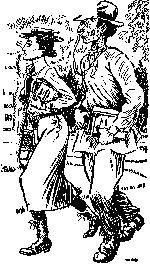 "Бегут": меткое слово. У них самих оно всегда было на языке. Точно
выпали из обихода все другие темпы и способы передвижения: "передать
записку? я бегу". "Забежала проведать Осю, "о его дома нет". Даже, в редкие
минуты роскоши: "сегодня вечером идет в театре "Возчик Геншель", надо
сбегать посмотреть".
Но тот приятель мой в одном был, во всяком случае, не прав: я не
смеялся, а скорее тревожился. Однажды утром в глухой аллее парка, за той
ложбиной, что называлась у мальчиков Азовским морем, я издали увидел одну из
дочерей Юдифи: она шла мне навстречу с юношей в косоворотке и, проходя мимо,
оба и не посмотрели на меня, только понизили голоса. У этой не было ни
очков, ни насморка, и походка была не та, но все остальное имелось в
наличии: шляпа-тарелка, оборванные кнопки, перепутанные шнурки на пыльных
башмаках; и я узнал Лику.
Еще в одном смысле начинала портиться наша весна. Рассказывая о той
ночи в "мертвецкой" на студенческом балу, где Марко чуть не поступил в
грузины, я забыл упомянуть об одной речи. Произнес ее второкурсник по имени
Иванов; я его знал, иногда встречал и в еврейских домах -- обыкновенный
Иванов 7-ой или 25-ый, уютный, услужливый и незаметный, от которого никто
никогда никакой прыти не ожидал, меньше всего речей. Он выступил рано, когда
еще и пьян не был; начала речи и повода к ней я не слышал, но было в ней
такое место:
-- Позвольте, коллеги, нельзя нас обвинять во вражде к определенной
нации; даже если эта нация не имеет отечества и потому естественно не
воспринимает понятия "отечество" так, как мы, -- и то еще не грех. Но другое
дело, если эта нация является носительницей идей, которые...
Помню, я подивился, что в "мертвецкой", в исконном царстве единой и
бессменной Марсельезы, стали возможны такие тона, без аплодисментов правда,
но и без скандала. Я только не мог еще догадаться тогда, что, случись это
годом позже, был бы уже и сочувственный отклик.
Я начинал входить в общественную деятельность: "секретарь временного
правления Общества санаторных колоний и других гигиено-диэтетических
учреждений для лечения и воспитания слабых здоровьем учащихся неимущего
еврейского населения города Одессы и его предместий". Факт: именно так оно
называлось, и в молодости я долго еще умел выговорить весь титул одним
духом. Возникло это общество тоже отчасти с крамольным замыслом: под видом
"гигиено-диэтетического учреждения" можно устроить занятия гимнастикой, а
под видом гимнастики -- самооборону. На юге начинали поговаривать, что скоро
это пригодится. Но, пока что, правление мне предложило набрать несколько
добровольцев для обхода бедноты -- записать, кому нужен даровой уголь; или,
может быть, даровая маца, не помню. Я передал это старшим детям Анны
Михайловны. Марко записался (потом не пошел, забыл и очень извинялся); Лика,
не подняв глаз от брошюры и не вынув пальцев изо рта, сделала знак отказа
головой; Маруся сказала: -- В паре с вами, хорошо?
В ее согласии ничего неожиданного не было: я уже знал, что у нее в
натуре есть дельная заботливая жилка. Это она, когда Самойло приехал из
местечка, за полтора года подготовила его к экзамену, какой требовался для
аптекарской его карьеры, а сама тогда еще была девочкой; она и теперь
занималась с племянницей кухарки, очень аккуратно. Когда заболел один из ее
"пассажиров", приезжий без родни в Одессе, она ходила к нему по три раза на
дню, следила, чтобы принимал лекарство, меняла компрессы, хотя час его
милости (знаю от нее) тогда уже давно был позади. Она умела даже сварить
приемлемый завтрак и перешить блузку.
Когда зашел за нею в назначенный день, в передней я застал уходящего
Самойло. Он был чем-то расстроен, кусал губы, даже ворчал неясно; о чем-то
хотел меня спросить и не спросил. В гостиной я застал мать и Марусю; обе
молчали так, как молчат люди, только что поссорившиеся. Маруся явно
обрадовалась, что можно уйти; по дороге на извозчике была неразговорчива и
тоже кусала губы.
-- В чем дело, Маруся, кто кого обидел?
-- Имеете прекрасный случай помолчать -- сказала она злобно, -- советую
воспользоваться.
Я послушался.
Помню один дом, кажется Роникера, в том участке, который мы с нею
должны были обойти. Там была особенность, для меня еще тогда невиданная:
двухэтажный подвал. Окна обоих этажей выходили, конечно, в траншею; но и за
окнами внутри был сперва коридор, во всю длину фасада, и только уже из
коридора "освещались" комнаты. Не умею описывать нищету, как не сумел бы
заняться обрыванием крыльев и лапок у живой мухи, или вообще медленным
мучительством. Помню, что неотступно зудела в мозгу одна банальная мысль: на
волосок от того было, когда ты должен был родиться, чтобы вышла у Господа в
счетной книге описка, или передумал бы он в последнюю секунду, что то
перечеркнул и что то строчкой ниже вписал, -- и здесь бы ты жил сегодня, в
нижнем подвале, завидуя мальчикам из верхнего, а они бы "задавались".
Совестно было за свое пальто; за то, что перед этим просидел час в греческой
кофейне Красного переулка за кофе с рахат-лукумом, растратив четвертак,
бюджет их целого дня. И, как всегда бывает, когда совестно, я проходил по
берлогам насупленный, говорил с обитателями суровым казенным голосом, на
просьбы отвечал сухо: Постараемся. Увидим. Обещать не могу.
Зато Маруся сразу -- нет другого слова -- повеселела. В первой же
комнате она подошла к люльке, сделанной из ящика; я за нею. В люльке, под
клочьями цвета старого мешка, лежал серый ребенок; от краев губ у него к
ноздрям шли две морщины, глубокие как трещины, и черные луночки под веками.
Когда над ним наклонилась Маруся, серое лицо вдруг мучительно исказилось,
трещины растянулись до глаз, изо рта показались багровые десны, крошечный
подбородок заострился, как у мертвого. Мать стояла тут же; она обрадовалась
и сказала по-еврейски, и я Марусе перевел:
-- Чтоб мне было за его сладкие глазки, барышня: он смеется.
У Маруси там все дети смеялись; сбегались, ковыляли, ползли к ней
сразу, точно это была старая знакомая и все утро ее ждали. Я оставил ее где
то на табуретке с целой толпою кругом, запись докончил один, и все время
слышал из той комнаты гвалт, возню, писк, заливающийся детский хохот, как
будто это не подвал, как будто действительно есть на свете зеленые лужайки и
запах сирени и солнце над головой...
-- Не знал, -- сказал я, когда мы кончили, -- что вы такая бонна.
От ее прежних нервов и следа не осталось; она весело ответила:
-- Дети ко мне идут; я и сама на них бросаюсь на улице, няньки часто
пугаются. Мама только на днях меня просила не трогать русских детей, а то
еще подумают, что я им даю леденцы с мышьяком: она прочла в газете, что был
такой слух где то пущен в Бессарабии.
Мы опять сидели в дрожках; по уставу того времени, я обнимал ее за
талию. Уже смерклось; вдруг она потянула мою обнимающую руку, чтобы стало
теснее, сама ближе прижалась, повернула ко мне лицо и шепнула:
-- Хотите, отдохнем от жидов? и от богатых, и от бедных? Идемте со мной
сегодня вечером к Руницким; Алексей Дмитриевич просил и вас привести -- он
только нас двоих и не боится. А вы его?
-- Гм... побаиваюсь, -- честно признался я, и вдруг сообразил: -- Эге,
Маруся, -- не из за него ли вышла у вас сегодня трагедия с мамой? Потому что
трагедия была, это ясно: пахло на всю квартиру Эсхилом, Софоклом и
Эврипидом.
Она, подтверждая, задорно закивала головой:
-- Клочья летели. Кстати пришел Самойло, мама еще и его на помощь
призвала!
-- Я не подозревал, что на верхах у предков смятение... О, Мария:
неужели есть опасность, что тебя выкрестят и -- как это выразить -- примут в
командный состав Добровольного флота?
Она все с тем же задором смотрела мне в лицо, близко-близко, и смеялась
так, что зубы сверкали в блеске только что зажженных на улице фонарей:
-- О нет, этого мама не опасается; она умная, она все знает.
-- Что "все"? Не пугайте меня.
-- Все, что со мною будет. И что я, в частности, и не выкрещусь, и не
выйду замуж за моряка из Добровольного флота.
-- Чего ж она боится?
-- Мама, в сущности, очень консервативный человек: любит, чтобы во всем
был раз навсегда заведенный порядок.
-- Заведенный порядок? когда речь идет о Марусе? Дитя мое, вашему бытию
имя катавасия, а не заведенный порядок.
-- Значит надо, чтобы и в катавасии была система, без неожиданностей и
без новых элементов; и вообще это не ваше дело. А к Руницким пойдете?
Этого Руницкого я видал у них уже раза три, с большими перерывами из за
рейсов его парохода (чина его не помню; что-то ниже капитана, конечно -- ему
и 30 лет не было -- но уже серьезный какой то чин). Он и мне, действительно,
показался неожиданным элементом в их обстановке. Невидалью русские гости в
наших домах, конечно, не были, хотя встречались редко, и туго
акклиматизировались: но это бывали адвокаты, врачи, купцы, студенты -- в
каком то отношении свои люди. Моряка никто никогда не видал, кроме как на
палубах. Маруся была в Мариинской гимназии вместе с одной из барышень
Руницких, потом обе семьи жили рядом на даче одно лето, когда Алексей
Дмитриевич получил отпуск; там он, кажется, катал ее со своими сестрами на
маленькой яхте: но и это еще его "не обосновывало". Сами сестры бывали у
Маруси редко, и вообще дачные дружбы не указ для зимних знакомств между
людьми таких друг для друга экзотических кругов. Он это чувствовал, явно
между нами робел; Маруся втягивала его в беседу, он честно старался попасть
в ритм, ничего не выходило; да и нам всем было при нем чуть-чуть несвободно,
словно это не гость, как мы, а наблюдатель. Был он недурной пианист, и гора,
видно, у него спадала с плеч, когда Маруся его просила играть: наконец не
надо разговаривать, а в то же время развлекаешь общество, как полагается по
вежливости. Увидав его там в первый раз, я подумал: "больше не придет", но
он вернулся из Владивостока и опять пришел, и еще опять.
Зато у них дома мы с Марусей провели чудесный вечер. Отца не было в
живых, но при жизни он был думский деятель доброй эпохи Новосельского; до
того был, кажется, и земцем; это чувствовалось в климате семьи (тогда еще,
конечно, не говорили "климат", но слово удачное), и еще дальше за этим
чувствовалась усадьба, сад с прудом, старые аллеи, липовые или какие там
полагаются; Бог знает сколько поколений покоя, почета, уюта, несуетливого
хлебосольства, когда гости издалека оставались ночевать и было где всех
разместить... Культура? я бы тогда именно этого слова не сказал -- слишком
тесно в моем быту было оно связано с образованностью или, быть может,
начитанностью. Мать, смолянка, не слыхала про Анатоля Франса, дочери
называли баритона Джиральдони "душка"; Алексей Дмитриевич и в ятях был
нетверд, хотя (он говорил: потому что) учился в Петербурге в важном каком то
лицее, по настоянию сановного какого то дяди. Только сидя у них, я оценил,
сколько было в наших собственных обыденных беседах, дома у Маруси,
дразнящего блеска -- и вдруг почувствовал, как это славно и уютно, когда
блеска нет. Пили чай -- говорили о чае; играли на рояле -- говорили о душке
Джиральдони, но младшая сестра больше обожала Саммарко; Алексей Дмитриевич
рассказал про Сингапур, как там ездят на джинрикшах, а мать про институтский
быт тридцать лет назад; все без яркости, заурядными дюжинными словами, не
длинно, не коротко, ни остроумно, ни трогательно -- просто по хорошему;
матовые наследственные мысли, липовый настой души, хрестоматия Галахова...
чудесный мы провели вечер.
-- Отдохнули? -- лукаво повторила Маруся, когда я провожал ее домой.
Через несколько дней со мной о Руницком заговорила Анна Михайловна; мы
тогда уже сильно успели подружиться; сама первая заговорила, и с большой
тревогой.
-- Он не то, что эта ваша ватага. Для них все -- как с гуся вода; а он
всерьез принимает. -- Да неужели вы сами не заметили, просидев еще с ним и с
Марусей целый вечер?
-- Право, не заметил; или сам не приглядчив, или уж такое у меня пенсне
ненаблюдательное.
-- А я вам говорю: он начинает влюбляться, по настоящему,
по-тургеневскому.
-- Но ведь главное тут -- Маруся; вы мне сами когда то сказали, что за
Марусю не боитесь?
-- Сказать сказала, но тогда вокруг все были свои. А такого морского
бушмена я ведь учесть не умею. Что, если он не из тех, кого можно подпустить
вот на столько и не дальше, а потом до свиданья, и не дуйся? Я боюсь: тут не
бенгальским огнем пахнет, а динамитом.
-- Что ж она, по вашему, от натиска сдастся врасплох и замуж выйдет?
-- Замуж она выйдет, только не за него; глупости говорите. Но
взволнована, как-то не по обычному, и она тоже... Мне жутко; уехал бы он
поскорее туда к себе на Сахалин, и хоть навсегда.
-- Можно спросить прямо?
-Да.
-- Вы боитесь, что Маруся... забудет про "границы"?
Мы уже очень сблизились, она много и часто говорила со мной о детях,
поверяла мне свое беспокойство за Лику и безнадежного Марко; вопрос ее не
мог покоробить. Она подумала.
-- Это?.. Это мне в голову не приходило; нет, не думаю. Непохоже. Какая
беда выйдет, не знаю, а выйдет... Словом, бросим это, все равно не поможет.
Она встала и пошла поправить подушки на диване, вдруг остановилась и
обернулась ко мне:
-- Замуж? Глупости говорите. За кого Маруся пойдет замуж, я давно знаю,
и она знает; и вы бы знали, если бы дал вам Бог пенсне получше.
"Бегут": меткое слово. У них самих оно всегда было на языке. Точно
выпали из обихода все другие темпы и способы передвижения: "передать
записку? я бегу". "Забежала проведать Осю, "о его дома нет". Даже, в редкие
минуты роскоши: "сегодня вечером идет в театре "Возчик Геншель", надо
сбегать посмотреть".
Но тот приятель мой в одном был, во всяком случае, не прав: я не
смеялся, а скорее тревожился. Однажды утром в глухой аллее парка, за той
ложбиной, что называлась у мальчиков Азовским морем, я издали увидел одну из
дочерей Юдифи: она шла мне навстречу с юношей в косоворотке и, проходя мимо,
оба и не посмотрели на меня, только понизили голоса. У этой не было ни
очков, ни насморка, и походка была не та, но все остальное имелось в
наличии: шляпа-тарелка, оборванные кнопки, перепутанные шнурки на пыльных
башмаках; и я узнал Лику.
Еще в одном смысле начинала портиться наша весна. Рассказывая о той
ночи в "мертвецкой" на студенческом балу, где Марко чуть не поступил в
грузины, я забыл упомянуть об одной речи. Произнес ее второкурсник по имени
Иванов; я его знал, иногда встречал и в еврейских домах -- обыкновенный
Иванов 7-ой или 25-ый, уютный, услужливый и незаметный, от которого никто
никогда никакой прыти не ожидал, меньше всего речей. Он выступил рано, когда
еще и пьян не был; начала речи и повода к ней я не слышал, но было в ней
такое место:
-- Позвольте, коллеги, нельзя нас обвинять во вражде к определенной
нации; даже если эта нация не имеет отечества и потому естественно не
воспринимает понятия "отечество" так, как мы, -- и то еще не грех. Но другое
дело, если эта нация является носительницей идей, которые...
Помню, я подивился, что в "мертвецкой", в исконном царстве единой и
бессменной Марсельезы, стали возможны такие тона, без аплодисментов правда,
но и без скандала. Я только не мог еще догадаться тогда, что, случись это
годом позже, был бы уже и сочувственный отклик.
Я начинал входить в общественную деятельность: "секретарь временного
правления Общества санаторных колоний и других гигиено-диэтетических
учреждений для лечения и воспитания слабых здоровьем учащихся неимущего
еврейского населения города Одессы и его предместий". Факт: именно так оно
называлось, и в молодости я долго еще умел выговорить весь титул одним
духом. Возникло это общество тоже отчасти с крамольным замыслом: под видом
"гигиено-диэтетического учреждения" можно устроить занятия гимнастикой, а
под видом гимнастики -- самооборону. На юге начинали поговаривать, что скоро
это пригодится. Но, пока что, правление мне предложило набрать несколько
добровольцев для обхода бедноты -- записать, кому нужен даровой уголь; или,
может быть, даровая маца, не помню. Я передал это старшим детям Анны
Михайловны. Марко записался (потом не пошел, забыл и очень извинялся); Лика,
не подняв глаз от брошюры и не вынув пальцев изо рта, сделала знак отказа
головой; Маруся сказала: -- В паре с вами, хорошо?
В ее согласии ничего неожиданного не было: я уже знал, что у нее в
натуре есть дельная заботливая жилка. Это она, когда Самойло приехал из
местечка, за полтора года подготовила его к экзамену, какой требовался для
аптекарской его карьеры, а сама тогда еще была девочкой; она и теперь
занималась с племянницей кухарки, очень аккуратно. Когда заболел один из ее
"пассажиров", приезжий без родни в Одессе, она ходила к нему по три раза на
дню, следила, чтобы принимал лекарство, меняла компрессы, хотя час его
милости (знаю от нее) тогда уже давно был позади. Она умела даже сварить
приемлемый завтрак и перешить блузку.
Когда зашел за нею в назначенный день, в передней я застал уходящего
Самойло. Он был чем-то расстроен, кусал губы, даже ворчал неясно; о чем-то
хотел меня спросить и не спросил. В гостиной я застал мать и Марусю; обе
молчали так, как молчат люди, только что поссорившиеся. Маруся явно
обрадовалась, что можно уйти; по дороге на извозчике была неразговорчива и
тоже кусала губы.
-- В чем дело, Маруся, кто кого обидел?
-- Имеете прекрасный случай помолчать -- сказала она злобно, -- советую
воспользоваться.
Я послушался.
Помню один дом, кажется Роникера, в том участке, который мы с нею
должны были обойти. Там была особенность, для меня еще тогда невиданная:
двухэтажный подвал. Окна обоих этажей выходили, конечно, в траншею; но и за
окнами внутри был сперва коридор, во всю длину фасада, и только уже из
коридора "освещались" комнаты. Не умею описывать нищету, как не сумел бы
заняться обрыванием крыльев и лапок у живой мухи, или вообще медленным
мучительством. Помню, что неотступно зудела в мозгу одна банальная мысль: на
волосок от того было, когда ты должен был родиться, чтобы вышла у Господа в
счетной книге описка, или передумал бы он в последнюю секунду, что то
перечеркнул и что то строчкой ниже вписал, -- и здесь бы ты жил сегодня, в
нижнем подвале, завидуя мальчикам из верхнего, а они бы "задавались".
Совестно было за свое пальто; за то, что перед этим просидел час в греческой
кофейне Красного переулка за кофе с рахат-лукумом, растратив четвертак,
бюджет их целого дня. И, как всегда бывает, когда совестно, я проходил по
берлогам насупленный, говорил с обитателями суровым казенным голосом, на
просьбы отвечал сухо: Постараемся. Увидим. Обещать не могу.
Зато Маруся сразу -- нет другого слова -- повеселела. В первой же
комнате она подошла к люльке, сделанной из ящика; я за нею. В люльке, под
клочьями цвета старого мешка, лежал серый ребенок; от краев губ у него к
ноздрям шли две морщины, глубокие как трещины, и черные луночки под веками.
Когда над ним наклонилась Маруся, серое лицо вдруг мучительно исказилось,
трещины растянулись до глаз, изо рта показались багровые десны, крошечный
подбородок заострился, как у мертвого. Мать стояла тут же; она обрадовалась
и сказала по-еврейски, и я Марусе перевел:
-- Чтоб мне было за его сладкие глазки, барышня: он смеется.
У Маруси там все дети смеялись; сбегались, ковыляли, ползли к ней
сразу, точно это была старая знакомая и все утро ее ждали. Я оставил ее где
то на табуретке с целой толпою кругом, запись докончил один, и все время
слышал из той комнаты гвалт, возню, писк, заливающийся детский хохот, как
будто это не подвал, как будто действительно есть на свете зеленые лужайки и
запах сирени и солнце над головой...
-- Не знал, -- сказал я, когда мы кончили, -- что вы такая бонна.
От ее прежних нервов и следа не осталось; она весело ответила:
-- Дети ко мне идут; я и сама на них бросаюсь на улице, няньки часто
пугаются. Мама только на днях меня просила не трогать русских детей, а то
еще подумают, что я им даю леденцы с мышьяком: она прочла в газете, что был
такой слух где то пущен в Бессарабии.
Мы опять сидели в дрожках; по уставу того времени, я обнимал ее за
талию. Уже смерклось; вдруг она потянула мою обнимающую руку, чтобы стало
теснее, сама ближе прижалась, повернула ко мне лицо и шепнула:
-- Хотите, отдохнем от жидов? и от богатых, и от бедных? Идемте со мной
сегодня вечером к Руницким; Алексей Дмитриевич просил и вас привести -- он
только нас двоих и не боится. А вы его?
-- Гм... побаиваюсь, -- честно признался я, и вдруг сообразил: -- Эге,
Маруся, -- не из за него ли вышла у вас сегодня трагедия с мамой? Потому что
трагедия была, это ясно: пахло на всю квартиру Эсхилом, Софоклом и
Эврипидом.
Она, подтверждая, задорно закивала головой:
-- Клочья летели. Кстати пришел Самойло, мама еще и его на помощь
призвала!
-- Я не подозревал, что на верхах у предков смятение... О, Мария:
неужели есть опасность, что тебя выкрестят и -- как это выразить -- примут в
командный состав Добровольного флота?
Она все с тем же задором смотрела мне в лицо, близко-близко, и смеялась
так, что зубы сверкали в блеске только что зажженных на улице фонарей:
-- О нет, этого мама не опасается; она умная, она все знает.
-- Что "все"? Не пугайте меня.
-- Все, что со мною будет. И что я, в частности, и не выкрещусь, и не
выйду замуж за моряка из Добровольного флота.
-- Чего ж она боится?
-- Мама, в сущности, очень консервативный человек: любит, чтобы во всем
был раз навсегда заведенный порядок.
-- Заведенный порядок? когда речь идет о Марусе? Дитя мое, вашему бытию
имя катавасия, а не заведенный порядок.
-- Значит надо, чтобы и в катавасии была система, без неожиданностей и
без новых элементов; и вообще это не ваше дело. А к Руницким пойдете?
Этого Руницкого я видал у них уже раза три, с большими перерывами из за
рейсов его парохода (чина его не помню; что-то ниже капитана, конечно -- ему
и 30 лет не было -- но уже серьезный какой то чин). Он и мне, действительно,
показался неожиданным элементом в их обстановке. Невидалью русские гости в
наших домах, конечно, не были, хотя встречались редко, и туго
акклиматизировались: но это бывали адвокаты, врачи, купцы, студенты -- в
каком то отношении свои люди. Моряка никто никогда не видал, кроме как на
палубах. Маруся была в Мариинской гимназии вместе с одной из барышень
Руницких, потом обе семьи жили рядом на даче одно лето, когда Алексей
Дмитриевич получил отпуск; там он, кажется, катал ее со своими сестрами на
маленькой яхте: но и это еще его "не обосновывало". Сами сестры бывали у
Маруси редко, и вообще дачные дружбы не указ для зимних знакомств между
людьми таких друг для друга экзотических кругов. Он это чувствовал, явно
между нами робел; Маруся втягивала его в беседу, он честно старался попасть
в ритм, ничего не выходило; да и нам всем было при нем чуть-чуть несвободно,
словно это не гость, как мы, а наблюдатель. Был он недурной пианист, и гора,
видно, у него спадала с плеч, когда Маруся его просила играть: наконец не
надо разговаривать, а в то же время развлекаешь общество, как полагается по
вежливости. Увидав его там в первый раз, я подумал: "больше не придет", но
он вернулся из Владивостока и опять пришел, и еще опять.
Зато у них дома мы с Марусей провели чудесный вечер. Отца не было в
живых, но при жизни он был думский деятель доброй эпохи Новосельского; до
того был, кажется, и земцем; это чувствовалось в климате семьи (тогда еще,
конечно, не говорили "климат", но слово удачное), и еще дальше за этим
чувствовалась усадьба, сад с прудом, старые аллеи, липовые или какие там
полагаются; Бог знает сколько поколений покоя, почета, уюта, несуетливого
хлебосольства, когда гости издалека оставались ночевать и было где всех
разместить... Культура? я бы тогда именно этого слова не сказал -- слишком
тесно в моем быту было оно связано с образованностью или, быть может,
начитанностью. Мать, смолянка, не слыхала про Анатоля Франса, дочери
называли баритона Джиральдони "душка"; Алексей Дмитриевич и в ятях был
нетверд, хотя (он говорил: потому что) учился в Петербурге в важном каком то
лицее, по настоянию сановного какого то дяди. Только сидя у них, я оценил,
сколько было в наших собственных обыденных беседах, дома у Маруси,
дразнящего блеска -- и вдруг почувствовал, как это славно и уютно, когда
блеска нет. Пили чай -- говорили о чае; играли на рояле -- говорили о душке
Джиральдони, но младшая сестра больше обожала Саммарко; Алексей Дмитриевич
рассказал про Сингапур, как там ездят на джинрикшах, а мать про институтский
быт тридцать лет назад; все без яркости, заурядными дюжинными словами, не
длинно, не коротко, ни остроумно, ни трогательно -- просто по хорошему;
матовые наследственные мысли, липовый настой души, хрестоматия Галахова...
чудесный мы провели вечер.
-- Отдохнули? -- лукаво повторила Маруся, когда я провожал ее домой.
Через несколько дней со мной о Руницком заговорила Анна Михайловна; мы
тогда уже сильно успели подружиться; сама первая заговорила, и с большой
тревогой.
-- Он не то, что эта ваша ватага. Для них все -- как с гуся вода; а он
всерьез принимает. -- Да неужели вы сами не заметили, просидев еще с ним и с
Марусей целый вечер?
-- Право, не заметил; или сам не приглядчив, или уж такое у меня пенсне
ненаблюдательное.
-- А я вам говорю: он начинает влюбляться, по настоящему,
по-тургеневскому.
-- Но ведь главное тут -- Маруся; вы мне сами когда то сказали, что за
Марусю не боитесь?
-- Сказать сказала, но тогда вокруг все были свои. А такого морского
бушмена я ведь учесть не умею. Что, если он не из тех, кого можно подпустить
вот на столько и не дальше, а потом до свиданья, и не дуйся? Я боюсь: тут не
бенгальским огнем пахнет, а динамитом.
-- Что ж она, по вашему, от натиска сдастся врасплох и замуж выйдет?
-- Замуж она выйдет, только не за него; глупости говорите. Но
взволнована, как-то не по обычному, и она тоже... Мне жутко; уехал бы он
поскорее туда к себе на Сахалин, и хоть навсегда.
-- Можно спросить прямо?
-Да.
-- Вы боитесь, что Маруся... забудет про "границы"?
Мы уже очень сблизились, она много и часто говорила со мной о детях,
поверяла мне свое беспокойство за Лику и безнадежного Марко; вопрос ее не
мог покоробить. Она подумала.
-- Это?.. Это мне в голову не приходило; нет, не думаю. Непохоже. Какая
беда выйдет, не знаю, а выйдет... Словом, бросим это, все равно не поможет.
Она встала и пошла поправить подушки на диване, вдруг остановилась и
обернулась ко мне:
-- Замуж? Глупости говорите. За кого Маруся пойдет замуж, я давно знаю,
и она знает; и вы бы знали, если бы дал вам Бог пенсне получше.
Х. ВДОЛЬ ПО ДЕРИБАСОВСКОЙ
Это произошло на Дерибасовской, года через два после начала нашего
рассказа.
Редакция наша находилась тогда в верхнем ее конце, в пассаже у Соборной
площади; и, по дороге туда, ежедневно я проходил то всей длине этой улицы,
королевы всех улиц мира сего. Почему королевы, доводами доказать невозможно:
почти все дома с обеих сторон были, помнится, двухэтажные, архитектура по
большей части среднего качества, ни одного памятника. Но такие вещи доводами
не доказываются; всякий титул есть мираж, и раз он прилип и держится не
отклеиваясь, значит -- носитель достоин титула, и баста. Я, по крайней мере,
никогда в те годы не мог бы просто так прошмыгнуть по Дерибасовской, как ни
в чем не бывало, не отдавая себе отчета, где я: как только ступала нога на
ту царственную почву, меня тотчас охватывало особое сознание, словно
произошло событие, или вьйтала мне на долю привилегия, и я невольно
подтягивался и пальцем пробовал, не развязался ли галстук; уверен, что не я
один.
Свое лицо было и у фрейлин королевы, поперечных улиц на пути моего
паломничества. Я начинал шествие снизу, с угла Пушкинской: важная улица,
величаво сонная, без лавок на том квартале; даже большая гостиница на углу
почему то не бросалась в глаза, не создавала суматохи, и однажды я, солгавши
друзьям, будто уехал за город, прожил там месяц, обедая на террасе, и никто
знакомый даже мимо не прошел. Кто обитал в прекрасных домах кругом, не знаю,
но, казалось, в этой части Пушкинской улицы доживала свои последние годы
барственная, классическая старина, когда хлебники еще назывались
негоциантами и, беседуя, мешали греческий язык с итальянским.
Следующий был угол Ришельевской; и первое, что возвещало особое лицо
этой улицы, были столы менял, прямо тут же на тротуаре под акациями. На
столах под стеклом можно было любоваться и золотом, и кредитками всех планет
солнечной системы, и черноусый уличный банкир, сидя тут же на плетеном стуле
с котелком или фетровой шляпой на затылке, отрывался от заморской газеты и
быстро обслуживал или обсчитывал вас на каком угодно языке. Так знакомилась
с вами верховная артерия черноморской торговли. Пересекая ее, всегда я
бросал завистливый взгляд налево, где с обеих сторон сияли золотые вывески
банкирских контор, недосягаемых магазинов, олимпийских цырюлен, где умели
побрить человека до лазурного отлива...
Именно здесь, однажды зимою часа в четыре дня, увидел я странную сцену:
постовой полициант, правивший движением извозчиков на этом ответственном
перекрестке, на минуту куда то отлучился, и вдруг его место заняли два
взрослых молодых человека, один в студенческой шинели, другой в ловко сшитом
полушубке и с высокой папахой на голове. Пошатываясь и томно опираясь друг
на друга, они, на глазах у изумленного народонаселения, вышли на самую
середину перекрестка; добросовестно и вдумчиво, на глазомер, установили
центр, подались слегка вправо, подались чуть чуть назад, пока не попали в
геометрическую точку; тогда учтиво и с достоинством раскланялись между
собою, повернулись друг к другу тылом, оперлись для твердости спиной о спину
и, вложив каждый по два пальца в рот, огласили природу свистом неподражаемой
чистоты и силы. Услыша знакомый сигнал, все извозчики и все лихачи с севера,
юга, востока и запада машинально замедлили санный бег свой, ругаясь сквозь
зубы и глазами ища городового, подавшего такой повелительный окрик, -- и,
увидя на месте его этот необъяснимый дуумвират, опешили и совсем
остановились.
101
102
Юноша в папахе, хотя нетвердо в смысле произношения, но грозным басом
великого диапазона, возгремел: -- Езжай, босява, чего стали! -- и они,
действительно, по слову его тронулись, а оба друга указующими белыми
перчатками направляли, кому куда ехать. Бас тот из под папахи показался мне
знакомым; но уже несся откуда то на них городовой, со свирепыми глазами на
выкате, явно готовый тащить и карать -- и вдруг, в пяти шагах от
узурпаторов, выражение лица его стало милостивым и даже сочувственным:
увидел, что пьяны, и братская струна, по-видимому, зазвенела в православном
сердце. Что он сказал им, нельзя было расслышать, но несомненно что то
нежное: не беспокойтесь, панычи, я сам управлюсь -- и они, важно с ним
раскланявшись, побрели рука об руку в мою сторону. Когда поравнялись со
мною, папаха -- и тут я окончательно опознал Сережу -- склонилась ко мне на
плечо, и тот же голос прозвучал конфиденциально:
-- Уведите нас куда-нибудь за ворота: второй звонок, через минуту поезд
отходит в Ригу...
Потом Екатерининская: бестолковая улица, ни то и ни се; притязала на
богатство, щеголяла высокими франтоватыми домами вчерашнего производства, и
почему то "сюдою" по вечерам вливался и на Дерибасовскую, и на близкий
бульвар главный поток гуляющих; а чуть подальше, справа, шумные, как море у
массивов, запруженные сидящими, окруженные ожидающими, темнели биржи-террасы
кофеен Робина и Фанкони.
Но в то же время "сюдою" и няньки водили малышей в детский сад, что
ютился под обрывом у самого бульвара; и приказчики и посыльные; с пакетами и
без, тут же сновали между городом и портом; и сама портовая нация, в
картузах и каскетках набекрень, и дамы в белых платочках, часто
предпочитали, чем тащиться по отведенным для этого сословия плебейским
"балкам" и "спускам", гордо взмыть к высотам прямо из гавани по ста
девяносто восьми гранитным ступеням знаменитой лестницы (одно из восьми
чудес света), -- и наверху, мимо статуи Дюка в римской тоге, сразу
вторгнуться в цивилизацию и окропить тротуары Екатерининской водометом
подсолнечной шелухи. Не просто угол двух улиц, а микрокосм и символ
демократии -- мешанина деловитости и праздношатания, рвани и моды,
степенства и босячества... Одного только человека не ожидал я встретить на
том углу -- а встретил: моего дворника Хому.
Уже несколько недель подряд, каждое воскресенье, попадался мне на
Дерибасовской Хома: причепуренный, кубовая рубаха и белый фартук только что
стираны и выглажены, борода расчесана. В первый раз, встретясь с ним
глазами, я удивился: что он тут делает, за тридесять полей от своей законной
подворотни? В руках у него не было папки, -- значит, не в участок идет
прописать жильцов, и не из участка; да и не по пути это совсем к его
участку. Гуляет, как все? Не могло того быть, по самой природе вещей и
понятий; притом он и не двигался, а стоял в подъезде чужого какого то дома с
видом гражданина, знающего свое место, и тут оно, его место, и находится.
Только на следующее воскресенье заметил я, что он не один: позади, в тени
подъезда, виднелось еще несколько белых передников. На этот раз, случайно,
был со мной Штрок, наш полицейский репортер, мужчина всеведущий; он мне
объяснил.
-- Разве не знаете? Все по поводу ожидаемой демонстрации; вот и вызвали
со всего города дворников позубастее на подмогу городовым.
Квартал между Екатерининской и Гаванной я проходил с ощущением (хотя бы
даже только что и пообедал) гастрономического подъема, чаще всего машинально
переправляясь на правый тротуар: там, в огромном и приземистом доме Вагнера,
в глубине пустынного двора ютилась старая таверна Брунса, где в полночь,
после театра, ангелы небесные, по волшебным рецептам рая, создавали на кухне
амброзию в виде сосисок с картофельным салатом, а Ганимед и Геба (я путаю
демонологические циклы, но благодарный восторг не покоряется правилам) сами
за перегородкой отцеживали из боченка мартовское пиво. -- Здесь, у Брунса, в
одну такую ночь, по поводу, о котором будет рассказано в другой раз, Марко
вдруг отстранил от себя уже поданное блюдо с сосисками и заявил мне, что
отныне переходит на сурово-кошерную диэту.
...Рука зудит воздать подробную хвалу и остальным углам:
Красному переулку, с крохотными домиками в сажень шириной, последней
крепости полутурецкого эгейского эллинизма в городе, который когда то
назывался Хаджибей; тихой Гаванной улице, куда незачем было сворачивать
извозчикам; Соборной площади, где кончалась Дерибасовская и начинался
другой, собственно, мир, с иным направлением улиц, уже со смутным привкусом
недалеких оттуда предместий бедноты -- Молдаванки, Слободки-Романовки,
Пересыпи, -- словно здесь два города встретились и, не сливаясь, только
внешне сомкнулись. Но нельзя без конца поддаваться таким искушениям; а
главное сделано -- мы добрались до угла Дерибасовской улицы и Соборной
площади, где это началось -- и там же, минуту спустя, кончилось.
Я не видел; но внезапно прибежал в редакцию коллега Штрок, поманил всех
к себе и сообщил полушепотом: только что произошла "демонстрация". Их было
около сотни, все молодежь, и больше евреи; около трети были девушки; одно
красное знамя, и знакомый пристав божится, что на нем было вышито "долой
самодержавия", в родительном падеже. Двадцати шагов они не прошли, как
налетели со всех сторон полчища городовых и дворников, понеслись женские
вопли; свалка и ужас; появились казаки и стали разгонять публику, очищая
тротуары копытом и нагайкой. Теперь демонстрантов угнали в соседнюю
полицейскую часть; там заперты ворота, перед воротами стража, никто и мимо
не проходит, только по всему городу у людей испуганные, придавленные лица, и
все шепчутся: "смертным боем бьют, одного за другим...".
Часа в три меня вызвал в приемную редакционный служитель; он был
единственный православный во всем помещении, кроме наборной, но и его звали
Абрам:
-- Там до вас дама пришла.
Дама была Анна Михайловна. В первый раз видел я так близко большое
человеческое горе; хуже горя -- горюешь о том, что уже случилось и прошло:
но у нее было такое лицо, точно ржавый гвоздь воткнули в голову, он там, и
нельзя от него избавиться; не "прошло", а происходит, в эту самую минуту
совершается, вот-вот за углом, почти на глазах у нее, и она тут сидит на
кожаном кресле, и помочь нельзя, а кричать стыдно.
-- Там была Лика!
Я ничего не сказал; велел Абраму никого не впускать, притворил дверь,
стоял возле нее, она сидела, оба молчали и думали, и вдруг и я почувствовал
тот самый ржавый гвоздь у себя в мозгу: о чем ни старайся подумать, все
равно через полминуты вспомнишь о ржавом гвозде. Оттого, должно быть, и
говорят: "гвоздит". Одна мысль у меня гвоздила: как я тогда летом на даче
взял Лику только за руку, только помочь ей на крутой тропинке обрыва, и как
она вырывалась; и как, проходя мимо человека в коридоре, она вся
сторонилась, чтоб, не дай Бог, и буфом рукава до него не прикоснуться.
Недотрога, всеми нервами кожи, всеми нитками одежды; а теперь ее там бьют
шершавыми лапами эти потомки деда нашего гориллы. -- Так просидела у меня
Анна Михайловна час и ушла, ничего не сказав.
Несколько подробностей я услышал вечером у себя дома, от нашей
горничной Мотри, а ей рассказал очевидец и участник Хома. Над мужским
составом демонстрантов, когда закрылись ворота, потрудился и он, до сих пор
ныли у него косточки обоих кулачищ; загнали на пожарную конюшню, выводили
оттуда поодиночке, а потом уносили. Другое дело барышни, с барышнями так
нельзя, полиция тебе не шинок. Барышей, передавал Хома, покарали деликатно,
по отечески, и без оскорбления стыдливости -- в том смысле, что никого при
этом не было, кроме лиц вполне официальных. Он, Хома, и тут предложил было
свои услуги, но пристав не разрешил; дверь той комнаты была плотно закрыта,
и работали исключительно городовые.
В редакции была для меня открытка с раскрашенной картинкой, и письмо из
Вологды. Разрывая конверт, я тем временем посмотрел на открытку. Штемпель
был городской; раскрашенная картинка изображала злую худощавую даму,
избивавшую большой деревянной ложкой собственного мужа. Под этим было
чернилами приписано, без подписи и печатными буквами: "Так будет и с тобою
за статью о шулерах". Я, действительно, за неделю до того написал, что в
городе появилась молодежь, нечисто играющая в карты, иные даже в
студенческих тужурках, и что это очень нехорошо: в то подцензурное время и
не по таким обывательским руслам приходилось унылому публицисту сплавлять
залежи своего гражданского негодования. Но это было первое анонимное письмо
в моей карьере, и еще с угрозой: очень я был польщен, и решил показать
документ коллеге Штроку.
Письмо в конверте было от Маруси; она писала приблизительно так:
"...Каждое утро себя проверяю: помню ли, как называется этот город? Все
боюсь его спутать не то с Суздалью, не то с Костромой: никогда не
представляла себе, что можно сюда попасть, и еще по железной дороге; я
думала, что это все только у Янчина в учебнике написано. Очень милый
городок, приветливые люди, только они по-русски говорят ужасно смешно, как в
театре; но на рыжих барышень на улице оглядываются, совсем как у нас. Да:
представьте, я только после приезда по настоящему сообразила, что у меня нет
права жительства: папа что то говорил об этом, но я торопилась успокоить
маму (и сама тревожилась, как тут Лика устроится одна одинешенька на весь
Ледовитый океан) -- буркнула им, что все это улажено, и примчалась, и в тот
же день меня позвали в участок. Принять святое крещение было некогда,
поэтому я в беседе с приставом низко опустила девическую головку и
исподлобья стрельнула в него глазками. Это у меня -- исподлобья -- самый
убийственный прием, испытанное средство, et me voilá коренная пермячка,
или как там они называются местные жители.
"...Лику я устроила легко, тут вообще много ссыльных, есть и женщины;
необычайно славная публика -- не забудьте мне напомнить, когда приеду, надо
будет записаться в какую-нибудь партию, только чтобы там не было евреев.
Лика с еще одной девицей того же цеха поселилась, вообразите, у попа,
матушка и три поповны ее прямо на руках носят; я только чувствую, что она
скоро и на них начнет огрызаться.
"...Пойдите к маме и накричите на нее и натопайте обеими ногами. Она
думает, что тут все в кандалах, и что в июле тут на коньках катаются; что я
ей ни пишу, не верит. Объясните ей, что я пишу всю правду. Я просила об этом
и Самойло: он основательный, ему предки доверяют. Вы, правда, натура
фельетонная, но мама вас любит, а любовь слепа и доверчива.
"...Недели через две думаю приехать; а пока прижимаю вас к моему
любвеобильному бюсту (чисто по матерински, не беспокойтесь). -- Вечно твоя,
М.
"(Приписала бы, что Лика вам кланяется, но она вовсе не кланяется.)"
Я, конечно, решил опять поговорить с Анной Михайловной;
но уже много раз с нею говорил на эту самую тему; и дома у них уже
начали успокаиваться. Из восьмого класса Лику исключили, но в тюрьме
продержали недолго и сослали всего на два года. Я ее, конечно, не видел, и
почему то не хотел спрашивать у родных о ее настроении; знал только, что
здорова; и еще как то Анна Михайловна сказала вскользь, что Лика, узнав о
приговоре, обрадовалась вологодским перспективам. Большой подмогой оказался
Игнац Альбертович: принял несчастие, как человек твердый и современный, не
ворчал, не скулил, и нашел много цитат у Гейне и Берне в доказательство, что
не жертвой быть позорно, а угнетателем; даже при мне однажды принес из
кабинета красный томик Ленау и прочел нам стихи про трех цыган; не помню
подробно, в чем не повезло трем цыганам, но очень не повезло; и один тут же
заиграл на скрипке, второй закурил трубку, а третий лег спать. Конец я
(помню по переводу Сережи:
И тройной их урок в сердце врезался мне:
Если муку нести суждено нам --
Утопить ее в песне, в цигарке, во сне,
И в презренья тройном и бездонном.
Помогли и дети. Даже никудышный Марко, хоть и тут не нашел в
перекрученном мозгу своем для пришибленной матери ни одного слова впопад,
ходил за ней повсюду, как лохматый неуклюжий пес, и глядел растроганными
глазами на выкате, словно спрашивая, чем бы услужить. О Марусе и говорить
нечего: она взяла мать под команду, заставляла есть, не давала задумываться.
Торик делал, что мог -- приносил домой пятерки, в июне принес первую
награду, при переходе в шестой, кажется, класс. Но лучше всех и полезнее
всех был Сережа -- он, как только улеглась первая боль, стал лечить Анну
Михайловну вернейшим лекарством: смехом.
Уже давно полюбился мне Сережа, а в эти месяцы еще больше. Из любой,
должно быть, черты характера можно сделать красоту и художество, если
отдаться ей целиком: у него эта черта была беззаботность. И по пояс ему не
доросли те три цыгана:
когда не везло, не нужно было ему ни скрипки, ни трубки, ни даже
презрения -- просто не замечал, как миллионер, потерявший полтину. Весь он
был соткан из бесконечной искренности, даже когда сочинял небылицы; он так и
начинал: -- Что со мной сегодня было! только, чур -- я буду врать, но вы не
мешайте. -- И рассказывал то, что "было", лучше всякой правды; каждая
фигура, им задетая мимолетно, словно тут же в гостиной оживала от макушки до
носков; до сих пор я помню людей, которых, собственно, забыл начисто, но
помню голос и жесты по инсценировкам Сережи. Щедр он был нескончаемо, и
великий мот: "шарлатан", как выражался по южному Игнац Альбертович,
несколько раз отказавший ему в карманных деньгах из за непомерного перебора,
но Сережа всегда как-то был при деньгах и всегда, опять таки, без гроша.
Танцевал мазурку лучше всех на студенческом балу, а там были
специалисты-поляки; раз на даче запустил литой мяч высоко в небо и, когда
мяч стал падать, попал в него другим мячом; раз доплыл от купален Исаковича
до маяка и обратно, не отдыхая. Умел провести электричество, жонглировать
тарелками, набросать пером карикатуру Нюры с Нютой в порыве нежности, или
Абрама Моисеевича с Борисом Маврикиевичем в перебранке; или выстроить
карточный дом во сколько угодно этажей. Не зная нот, играл и Шопена и вальсы
Штраусы на флейте, на рояле, на виолончели; уверял, что за сто рублей
сыграет на всех трех инструментах сразу, и я ему верю. И во всем, что
говорил и делал, искрилась на первом плане беззлобная смешная соль вещей,
нравов и положений; и все это он в те недели повел приступом на горе Анны
Михайловны. Она сначала попыталась не поддаться, но не помогло; и, как
только стало ясно, что ничего особенно страшного с Ликой больше не будет,
постепенно опять наполнилась весельем их квартира, снова появились
"пассажиры", прежде спугнутые трауром, тогда еще редким для нашего круга:
дом стал, как дом, и напрасно тревожилась издалека Маруся. А показать ее
письмо и "накричать" -- это, конечно, не повредит.
Я спрятал письмо и вспомнил об открытке; кстати, из репортерской уже
слышался взволнованный голос коллеги Штрока. Всегда был у Штрока
взволнованный голос: он не просто "вел" у нас отдел полицейской хроники --
он душевно переживал вместе с вором каждую кражу, с искалеченным каждое
крушение на станции Раздельная, а уж полным праздником для него был удачный
пожар или замысловатое убийство. Это был в ту эпоху, вероятно, единственный
на всю Россию труженик печати, имевший право похвастаться: я удовлетворен --
я пишу именно о том, о чем люблю писать. Ему не мешал цензор, у всех
остальных "резавший" целые полосы, даже из передовиц о городском хозяйстве и
полях орошения. У Штрока была одна только живая помеха: наш собственный
коллега, редактировавший городскую хронику; человек положительный,
уравновешенный и точный. Он у Штрока не посягал на содержание, но стиль его
портил вандалически. У Штрока в рукописи женоубийство на Кузнечной
изображалось так: "Тогда Агамемнон Попандопуло, почувствовав в груди муки
Отелло, занес над головой сверкающий кухонный нож и с диким воплем бросился
на беззащитную женщину. Что между несчастными произошло после того, покрыто
мраком неизвестности". А в печать попадало: "владелец бакалейной лавки
греческий подданный такой то вчера зарезал свою жену Евлалию, 34-х лет, при
помощи кухонного ножа; обстоятельства дела полицейским дознанием пока еще не
выяснены".
Штрок знал в городе всех, и все его знали, начиная с самых верхов.
Литературную свою деятельность он начал еще при моряке-градоначальнике
Зеленом, одном из величайших ругателей на морях и на суше (а какой это милый
юноша в "Палладе" у Гончарова, где он, еще "мичман 3.", вечно поет и хохочет
и ест виноград с кожурой, "чтобы больше казалось"!). Некий заграничный
профессор Рудольф Фальб тогда предсказал близкий конец мира; Штрок ответил
ему научной брошюрой, где доказывал, что беспокоиться не о чем: все равно,
будет одно из двух -- или земля когда-нибудь остынет, или упадет на солнце.
По этому случаю он и познакомился с градоначальником лично: Зеленой послал
за ним околоточного, и сцена, которая тогда во дворце произошла,
действительно да останется покрыта мраком забвения. Зато с околоточным, по
пути во дворец и оттуда в участок, он подружился, а тот околоточный теперь
уже давно сделался приставом, и теперь у всей полиции Штрок числился своим
человеком и бардом ее сыскных подвигов. Знали его и просто горожане, по
летучей репутации, хотя печатался он, конечно, без подписи. Знали и "низы":
бывало, что через три дня после выхода сенсационного номера приваливала в
контору целая делегация с Пересыпи: -- нам, будьте добрые, барышня, тую
газету, где господин Штрок отписали за кражу на Собачьей площадке. -- Мы его
дразнили, что он "свои преступления" сочиняет по копеечным романам, ходким
тогда в простонародье со времен дела Дрейфуса; но он гордо отвечал:
-- Я чтоб делал свои преступления по ихним романам? Это они сочиняют
романы по моим преступлениям!
-- Штрок, -- сказал я, подавая ему открытку со злой женою и
страдальцем-мужем, -- скоро будет у вас в хронике покушение на убийство
молодого фельетониста, подававшего надежды.
Он прочитал, покрутил открытку в руке и вдруг сказал мне:
-- Идите сюда; я давно хотел с вами вот об этом поговорить.
Мы вышли в пустую комнату.
-- Вы напрасно это затеяли, -- начал он, -- лучше было не трогать эту
шулерскую компанию.
-- Штрок! -- ответствовал я, выпячивая грудь, -- за кого вы меня
принимаете? "Я тверда, не боюсь ни ножа, ни огня".
-- Да никто вас не тронет, ерунда, дело не в этом. А просто -- незачем
задевать своих собственных друзей.
-- Каких друзей? что вы плетете, коллега?
-- Штрок не плетет, а знает. Давно вы не были у Фанкони?
-- Вообще в таких шикарных местах не бываю.
-- А вы возьмите аванс в конторе и сходите. Вечерком, часов в десять.
Увидите всю эту компанию, за отдельным столом. На первом месте, душа
общества, обязательно восседает ваш приятель Сережа Мильгром.
XII. АРСЕНАЛ НА МОЛДАВАНКЕ
Я зазвал к себе Сережу и устроил ему без всяких церемоний жесточайший
допрос. Он сначала сделал наивные глаза и
спросил:
-- А в чем дело? Почему нельзя обыграть богатого типа? И почему не все
равно, как его обыграешь?
-- Вы метафизику бросьте. Я вас спрашиваю: работаете вы с этой
компанией или нет?
-- Надо правду сказать?
-- Всю!
-- Так вот: я, пока что, больше присматриваюсь. Раза три уже дулся в
банчок в одном таком доме, но мне так везло, что незачем было звать рыжего
на помощь.
-- К чему присматриваетесь?
-- До хлопцев присматриваюсь и до техники. Хлопцы обворожительные,
Маруся бы каждого мигом забрала в "пассажиры", на тебе даровой билет с
пересадкой; только я их до Маруси не подпущу. А техника зато --
палеолитическая. Курс четырех классов прогимназии. Я куды ловчее. Смотрите!
Он сунул руку мне за пазуху и оттуда, двумя пальчиками, за кончик,
извлек червонную даму; а у меня и колоды во всем доме не было.
-- Сережа, -- сказал я, сдерживая бешенство и тревогу, -- дайте мне
сейчас же честное слово, что вы бросите и эту компанию, и все это дело. Вы
уже попали к репортерам на зубок; чего вы хотите? осрамить отца и маму на
всю Одессу? мало у них горя без вас?
Он смотрел на меня пристально.
-- Эк вы волнуетесь, -- оказал он с искренним удивлением; ясно было,
что он взаправду не видит, из за чего тут горячиться. -- Ладно, отошьюсь;
жаль огорчать хорошую мужчину, хоть это вы я действуете против свободы
личности, а потому реакционно. Отшился, баста; борода Аллаха и прочее. И
насчет предков вы правы: нехай отдохнут от семейных удовольствий.
Я ему поверил, он в таких случаях, дав обещание, кажется, не врал; и
после мне коллега Штрок тоже подтвердил, что Сережа "отшился". Месяца два у
меня еще ныло внутри тяжелое чувство; но я его крепко любил, и скоро все
стерлось.
А Марко, действительно, после того случая с сосисками у Брунса,
перевелся на кошерное питание.
Началось это косвенно с того, что меня пригласили на тайное совещание
об устройстве самообороны. Это было перед Пасхой; если я верно еще помню
последовательность событий -- но не ручаюсь -- то через полгода после
несчастия с Ликой. Адрес мне дали незнакомый, на Молдаванке или где то
неподалеку. Оказалось помещение вроде конторы, но без дощечки на дверях;
принимал нас молодой человек лет 28-ми, симпатичной внешности, с черной
бородкой; Самойло Козодой, которого я там застал, называл его "Генрих", а
другие никак не называли -- по-видимому, и не знали его лично. Собралось
человек шесть молодежи, большинство студенты. "Генрих" принес чайник,
стаканы, печенье, оказал: -- если что понадобится, я к вашим услугам, -- и
ушел в другую комнату, и никто его не удерживал.
Мы там решили объявить себя комитетом, собрать массу денег и вооружить
массу народу. Говорили, главным образом, двое из студентов: один -- большой
видно философ, со множеством заграничных терминов в каждой фразе; зато
другой, напротив, реального и даже немного циничного оклада, с резкими
еврейскими интонациями, удивительно как-то подходившими к его ходу мысли.
-- Не могу, -- излагал философ, -- никак не могу отрешиться от
некоторого скепсиса пред этой концепцией: наша еврейская масса в роли
субъекта охраны.
-- Вы боитесь, что разбегутся? -- Ну, а если разбегутся, так что?
Накладут им? И пускай накладут: это их проучит, на следующий раз храбрее
будут.
-- Но не рациональнее ли было бы, -- настаивал первый, -- утилизировать
элементы более революционные: поручить эту функцию, например, сознательному
пролетариату?
-- Вот как? -- отвечал второй. -- Мы за каждый "бульдог" должны
заплатить три рубля шестьдесят, и я еще не вижу, где мы достанем три
шестьдесят; а потом дадим эту штуку вашим сознательным, и спрашивается
большой вопрос, в кого они будут палить?
-- Это совершенно необоснованная одиозная инсинуация!
-- Может быть; но чтобы на мои деньги подстреливали моих же --
извините, поищите себе другого сумасшедшего.
Самойло, все время молчавший, вдруг сказал (я чуть ли не в первый раз
тогда услышал его голос):
-- Сюда пригласили, кроме нас, еще двоих, которые "состоят в партии",
но они не пришли.
-- Им квартира не нравится, -- объяснил кто-то, понизив голос и
оглядываясь на закрытую дверь второй комнаты.
-- Ага! -- подхватил циник. -- Ясно: для них квартира важнее, чем
еврейские бебехи; а нам нужны такие, для которых те бебехи важнее, чем эта
квартира!
Мне из самолюбия неловко было спросить, чем плоха квартира; остальные,
по-видимому, знали, и я тоже сделал осведомленное лицо. Большинство
высказалось за точку зрения циника; мы приняли какие то решения, вызвали
Генриха попрощаться и разошлись. Самойло жил в моей стороне города, мы пошли
вместе по безлюдным полуночным улицам.
-- Что это за Генрих? -- спросил я.
Он даже удивился, что я Генриха не знаю. Оказалось, это был местный
уполномоченный хитрого столичного жандарма Зубатова, который тогда устраивал
(об этом слышал, конечно, и я) легальные рабочие союзы "без политики", с
короткой инструкцией: против хозяев бастовать -- пожалуйста, а
государственный строй -- дело государево, не вмешивайтесь.
-- Гм, -- сказал я, -- в самом деле, неудобная штаб-квартира.
-- Найдите другую, чтобы дали всем приходить и еще склад устроить; а
Генрих ручается, что обыска не будет.
-- А сам не донесет?
-- Нет; я его знаю, он из моего городка. Дурак, впутался в пропащее
дело; но донести не донесет.
-- Только ли "пропащее"? Люди скажут: скверное дело.
-- Почему?
-- Ну, как же: во-первых, с жандармами; а главное -- в защиту
самодержавия.
Говорить можно было свободно, прохожих не было и мы нарочно вышли на
мостовую; конечно, беседовали тихо. Что Самойло так разговорчив, я уже
перестал удивляться; мне как-то недавно и Маруся обмолвилась, что с ним
"можно часами болтать, и куда занятнее, чем с вами".
Теперь он на мои слова не ответил, но через минуту сказал:
-- Вовсе не оттого треснет самодержавие, что люди бросают бомбы или
устраивают бунты. По моему если хотите, чтобы непременно случилось какое то
событие, совсем не надо ничего делать для этого; даже говорить не надо.
Просто надо хотеть и хотеть и хотеть.
-- То есть как это? Про себя?
-- Про себя. Где есть человек, хотя бы один на всю толпу, который чего
то хочет, но по настоящему, во что бы то ни стало, -- незачем ему стараться.
Достаточно все время хотеть. И чем больше он молчит, тем это сильнее.
Кончится так, как он хочет.
-- Что ж это будет -- черная магия, или гипнотизм какой то новый?
-- Гипнотизм, магнетизм, это разберут доктора, а я только аптекарь. Я
знаю по-аптекарски: если один человек в комнате, извините, пахнет карболкой,
вся комната и все гости в конце концов пропахнут карболкой. И почему вы
говорите: "новый"? Всегда так было, и в больших делах и в маленьких делах;
даже у человека в его собственной жизни.
Смутно мне подумалось, не о себе ли он говорит, о своих каких то
умыслах; и, действительно, он прибавил, помолчав:
-- Я вот там кис у себя в Серогозах и мечтал уехать в Одессу и стать
фармакологом, а денег не было; что ж вы думаете, я барахтался, лез из кожи
вон? Ничего подобного. Просто хотел и хотел, мертвой хваткой. Вдруг приехал
дядя Игнац, посмотрел на меня и сказал: укладывай рубахи, едем. И во всем
так будет.
-- Теперь мне направо; до свиданья, мсье такой то, спасибо за приятную
компанию.
Он все еще не привык называть людей по имени-отчеству, очевидно считая
это фамильярностью. Мы расстались; я шел один и, по молодости лет, дивился
тому, что вот и у такого рядового пехотинца жизни, оказывается, есть своя
дума и своя оценка вещей.
Скоро все ящики в столах у Генриха наполнились "бульдогами" и
патронами. Позже я слышал жалобы, что патроны не все были того калибра, а
шестизарядные револьверы наши кто то назвал "шестиосечками"; но разбирали их
бойко, с утра до ночи приходили студенты, мясники, экстерны, носильщики,
подмастерья, показывали записки от членов комитета и уходили со вздутым
карманом.
Пришел и Сережа, ведя на буксире нахмуренного молодца в каскетке, вида
странного, хотя мне смутно знакомого: для рабочего человека слишком чист и
щеголеват, -- но и приказчики так не одеваются -- на шее цветной платок, а
штаны в крупную клетку; что то в этом роде описывал тот сослуживец мой по
газете, бытописатель нашего порта и предместий. Немного знакомо было мне и
самое лицо.
-- Это иудей Мотя Банабак, -- представил его Сережа, -- я вас когда то
познакомил на лодке; помните, когда еще учил вас, как едят гарбузы? Дайте
ему шесть хлопушек, для него и его компании; я за них ручаюсь.
На Сережино ручательство я бы не положился, но Мотя Банабак предъявил и
подлинную записку от студента-циника, с пометкой "важно".
-- Это что за тип? -- спросил я у Сережи, когда тот ушел со своим
пакетом. -- Не сердитесь -- но не сплавляет ли он барышень в Буэнос-Айрес?
-- Вы, кабальеро, жлоб и невежда: те в котелках ходят, а не в
каскетках. А вы лучше расспросите брандмейстера Мирошниченко про пожар в
доме Ставриди на Слободке: кто спас Ганну Брашеван с грудным дитем? Мотя.
Пожарные сдрейфили, а Мотя с халястрой двинули на третий этаж и вынесли!
-- Что вынесли?
-- Как что? Ганну и дите. Мало?
-- А еще что? не на руках, а в карманах?
Он очень радостно рассмеялся.
-- Правильный постанов вопроса, не отрицаю. Но вам теперь какие нужны:
честные борцы за мелкую земскую единицу -- или головорезы с пятью пальцами в
каждом кулаке?
Пропало, тот уже ушел, дальше спорить не стоило. Впрочем, и
студент-циник, тем временем надошедший, присоединился к мнению Сережи:
-- Нация мы, -- сказал он, -- хотя музыкальная и так далее, но не
воинственная; только вот такое жулье у нас пока и годится -- как он
выразился, тот пшютоватый? -- "в субъекты охраны".
Марко у нас дневал и ночевал, и тут же "учился стрелять". Кто то ему
сказал, что это можно и в комнате: надо стать перед зеркалом и целиться до
тех пор, пока дуло не исчезнет и останется только отражение дырки. На этом
маневре он умудрился разбить генрихово зеркало, но сейчас же сбегал вниз и
купил два -- про запас. Успешно ли подвигалось обучение, сомневаюсь, потому
что он поминутно отрывался от "стрельбы", как только приходил новый клиент:
со всеми пускался в разговор, тараща вылупленные глаза, и жадно пил каждое
слово. Лица Марко я все таки не помню, но сейчас мне кажется, что у него
должны были быть огромные уши, оттопыренные навстречу собеседнику, и из
каждого уха широкие трубы вели прямо в сердце.
Самойло пришлось вызвать еще раз: он единственный из комитетчиков умел
перевести на "жаргон" прокламацию и начертать анилиновыми чернилами
квадратные буквы. Он же, пощупавши гектограф, покачал головою: тридцати
копий не даст, я вам сварю на двести. Ушел, принес желатин, бутылку с
глицерином и еще не помню что, целый час провозился, и на завтра,
действительно, отпечатал высокую кипу фиолетовых листовок. Когда он их
выдерживал на массе, нажимая и поглаживая, я нетерпеливо спросил:
-- Сколько времени на каждый лист?
-- Иначе нельзя, -- ответил он назидательно. -- Для всякого дела два
правила: не торопиться -- и мертвая хватка.
(Раздать пачки с листовками по десяти адресам взялся Марко, но по
дороге чем то увлекся, и через месяц я половину этой литературы нашел у него
под столом; но я не виноват -- ему это поручили, когда меня не было).
Самойло оказался полезен и стратегически. Пока он варил на керосинке
жижу для гектографа, мы обсуждали, где какую под Светлый праздник поставить
дружину; одну из них решили поместить у лодочника в самом низу Карантинной
балки -- лодочник был персиянин и сочувствовал. Самойло вмешался.
-- Когда есть балка, глупо ставить людей внизу. Вы их разместите у
верхнего конца: сверху вниз удобнее стрелять.
Так и сделали; а впрочем все это не понадобилось. Погром в то
воскресенье состоялся, и кровавый, и до сих пор не забыт;
но произошел он в этот раз не в Одессе. Мы устроили последнее
ликвидационное заседание, послали сообщить владельцу оружейной лавки
Раухвергеру, что уплатить ему долг в пятьсот рублей нам нечем, и попрощались
с Генрихом. Он долго жал мне руку, и сказал:
-- Не благодарите: я сам так рад помочь делу, о котором нет споров,
чистое оно или грязное...
В глазах у него было при этом выражение, которое надолго мне
запомнилось: у меня так самого бы тосковали глаза, если бы заставила меня
судьба -- или своя вера -- пройти по улице с клеймом отщепенца на лбу, и
вокруг бы люди сторонились и отворачивались. Кто его знает, может быть, и
хороший был человек.
Но Марко, отвергнув сосиски в таверне Брунса, пошел домой, разбудил
Анну Михайловну и потребовал: во-первых, чтобы мясо впредь покупали в
еврейской лавке; во-вторых, чтоб была посуда отдельная для мяса и отдельная
для молочных продуктов, как у Абрама Моисеевича; и завтра же начать. Она его
прогнала спать; тогда он на свои деньги завел две тарелки, сам их отдельно
мыл, а домашних котлет вообще знать не хотел, и вместо того купил на запас
аршин варшавской колбасы с чесноком. Колбасу он хранил на гвозде у себя в
комнате, а комната у него была общая с Сережей; сколько из за этого
потрясений вышло у них в доме, я и рассказать не умею. Три недели это
длилось, пока Марко не объявил матери, что постановил вообще обратиться в
вегетарианство; а также -- не помню, в какой связи -- приступить к изучению
персидской литературы в подлиннике, и для того намерен с осени перевестись в
Петербург, на факультет восточных языков.
По пути событий, определивших Марусину судьбу, особенно помню одну
летнюю ночь, сначала на море, потом на Ланжероне. Трудно будет об этом
рассказать так, чтобы ни одно слово не царапнуло: ради памяти Маруси мне бы
не хотелось обмолвиться неловко или шероховато. У нее действительно (я уже
сказал) все выходило "по милому", даже самые -- для того времени --
взбалмошные безрассудства, но сберечь эту черту в моей передаче будет
нелегко; очень боюсь за эти две главы, но надо.
В шаланде было нас семеро, большая шаланда; были одинаковые мать и дочь
Нюра с Нютой; два белоподкладочника, однажды здесь описанные (или другие, не
важно); Маруся, Самойло и я. Самойло после той недели на квартире у
"Генриха" уже не так сторонился, хотя снова замолчал. На четырех веслах мы
ушли очень далеко; и еще до заката съели все 'пирожки и груши.
Маруся была неровная, то хохотала и шумела, то задумывалась. Я знал,
почему. Когда мы опускались к берегу и отстали вдвоем, она вдруг обернулась
и шепнула, вся клокоча внутри от возбуждения и радости:
-- Через месяц Алеша приезжает.
Я не сразу понял, о ком это; потом сообразил -- о Руницком. Когда мы у
него были год тому назад, она его называла Алексей Дмитриевич. Сколько раз
он с тех пор уезжал "на Сахалин", сколько раз возвращался, встречались ли
они, я не знал; видно, встречались.
Теперь она в лодке минутами сходила с ума: скакала по всем
перекладинам, садясь на плечи гребцам и раскачивая плоскодонку так, что Нюра
с Нютой взвизгивали в унисон; завидя вдали малорослый пароход "Тургенев",
возвращавшийся перед вечером из Очакова, приказала "обрезать ему нос" и
обязательно перед самым носом; вырвала у Самойло руль и провела предприятие
так удачно, что с корабельной рубки понеслась хоровая ругань, которую, слава
Богу, отчасти заглушали тревожные гудки; но Самойло сидел рядом с нею на
корме и следил, прищуря глаза, и ясно было, что при надобности он ссадит
Марусю на дно и выручит нас. После этого подвига она ушла на нос, свернулась
там колечком и долго молчала, глядя на закат. Потом взяла урок курения у
одного из студентов -- женщины тогда еще у нас не курили; и много веселья
было по поводу того, что у студента на крышке портсигара внутри, так что не
мог не прочесть каждый, кому бы он предложил папиросу, оказалась известная
надпись серебрянной славянской вязью: "кури, сукин сын, свои".
Тем временем коллега его поддразнивал Нюру и Нюту, уверяя, что обе они
тайно влюблены в Сережу: "поровну, конечно". Их записки к нему начинаются
так: "Родной наш...", и одну строку пишет мать, а следующую дочь.
-- Это не нужно, -- отшучивались Нюра и Нюта, -- у нас один почерк.
Но я с удивлением заметил, что обе слегка -- "поровну" -- порозовели.
Впрочем, это мог быть и .просто отблеск заката: небывалой красоты
развернулся в тот вечер закат. Мы бросили грести; лодка даже не
покачивалась. Кто то вздохнул: -- хороши у Господа декораторы.
После этого мы играли в Ueberbrettl -- Нюра с Нютой, женщины
образованные, видели это недавно в Вене.
Студент с портсигаром очень мило пел гаванные песни. Большинство были
обычные, но одной я ни до того, ни после не слышал: целый роман. Сначала он
и она -- еще малые дети: "играются" где то на Косарке и дразнят улиток:
"лаврик, лаврик, выставь рожки, напеку тебе картошки". Потом она, подростая
и хорошея, дразнит уже его; дальше -- он начинает ревновать:
"Кто купил тебе сережки?". В конце концов она его бросила;
он грузчик в порту, а она -- связалась с богатым греком и, встретив
прежнего милого, уже отвернулась.
Лаврик, лаврик, выставь рожки...
Разошлись наши дорожки.
Нюра и Нюта рассказали историю из французского сборника легенд. Умную
историю: только много лет после того, и на иных опытах, я понял какую умную.
Жил-был рыцарь, у которого отроду не было сердца, но знакомый часовщик
сделал для него хитрую пружину, вставил в грудь и завел раз навсегда. Рыцарь
с пружиной вместо сердца ездил по дорогам и защищал вдов и сирот; в
крестовом походе спас самого Бодуэна, первый взобрался на стену святого
города; увез из терема, охраняемого драконом, прекрасную Веронику и
обвенчался с нею в соборе; отличная была пружина. А после всего, покрытый
славой и ранами, разыскал он того часовщика и взмолился Христа ради: да ведь
я не люблю ни вдов и сирот, ни святого гроба, ни Вероники, все это твоя
пружина; осточертело: вынь пружину! -- Нюра и Нюта умудрились это рассказать
"вдвоем", т. е. одна говорила, вторая кивала головою, а впечатление было,
что вдвоем.
Второй белоподкладочник, очевидно человек настойчивый, придумал
кораблекрушение. Только трое спаслось на необитаемом острове: мичман и две
пассажирки ("второго класса", прибавил он ехидно), мать и дочь. На острове
обе дамы влюбились в мичмана ("поровну"), но, будучи "адски благовоспитаны",
и помыслить не могли ни о каких вольностях. И вот случилось два чуда:
во-первых, оказалось, что на том необитаемом острове законом разрешается
многоженство; а во-вторых -- когда мамаша однажды хорошенько помолилась
Богу, Бог сжалился: ее дочь перестала быть ее дочерью и стала ее племянницей
и т. д.
Он очень забавно рассказал эту чепуху. Снова ли зарумянились Нюра и
Нюта, уже не было видно: быстро темнела ночь, пока еще безлунная. Только
звезды светили так, что можно было разобрать, который час, и гладкая вода,
полная фосфора, при каждом легком всплеске рассыпалась гроздьями
хрустального бисера.
Самую лучшую историю рассказал, по моему, я, и не ерунду, как он, а
правду: про республику Луканию. Когда мы были в третьем классе, потрясающее
впечатление произвели на меня и товарищей две строчки из оды "Уме
недозрелый":
Румяный, трожды рыгнув, Лука подпевает:
"Наука содружество людей разрушает".
Мы учредили тайное Содружество румяного Луки -- программу незачем
излагать, дело ясное, -- оккупировали одну долинку, вон там, на Ланжероне, и
в честь веселого патрона окрестили ее республика Лукания. В виду
полудамского состава аудитории, не всю летопись этого государства можно было
им рассказать, но что можно было, прошло с успехом: как мы строили крепость
из наворованных кирпичей; как функционировал у нас почтовый ящик --
двухфунтовая жестянка из под чаю Высоцкого, зарытая глубоко в родную землю
(когда мне нужно было снестись по срочному делу с одним из сограждан, я на
перемене в гимназии шептал ему на ухо: "вьгглядай на почтальона"; после
уроков он мчался на Ланжерон, откапывал, прочитывал, составлял ответ,
закапывал и мчался ко мне домой -- позвонить у двери и шепнуть:
"вьгглядай..."; тогда мчался я...) и про газету "Шмаровоз", где напечатан
был приказ по министерству народного просвещения о реформе классического
образования: "заменить греческий латинским, а латинский греческим"; и как мы
там провели в жизнь смелый и совершенно беспримерный государственный опыт --
уже выбрав Лельку Ракло президентом, после этого, чтобы не обиделся его
соперник Лелька Помидора, дополнительно выбрали того королем нашей
республики. Отличная, по моему, история; огорчило меня только то, что
аудитория не поверила в ее подлинность: я обиженно показывал им пальцем в ту
сторону, где ночь сокрыла берег Ланжерона, и божился, что и теперь еще мог
бы найти ту долину и даже предъявить уцелевшие огрызки крепости...
Вдруг Маруся откликнулась:
-- Покажете мне? Еще сегодня ночью, на обратном пути? Я домой пойду с
вами.
После этого была очередь Самойло. Я ожидал, что он буркнет отказ, но он
вместо того сейчас же внес и свою повинность, и именно так:
-- Жила была одна девушка, и постоянно любила играть с огнем; вот и
кончилось тем, что обожглась ужасно больно. Все.
Даже при свете звезд я разобрал, что Маруся высунула ему язык. Но...
Теперь ли только мне кажется, что от его слов почему то мне холодно вдруг
стало у сердца, или так оно и было? Вероятно кажется: я не подвержен
предчувствиям. Но уже вскочила, во весь рост на носу закачавшейся лодки,
Маруся и заявила:
-- Теперь я. Жила-была одна девушка и любила играть с водою; и однажды
была чудесная ночь на море, и она решила купаться прямо с лодки. Мальчики,
не сметь оглядываться! Самоило, убирайся с кормы и сядь спиною.
-- Вы... не простудитесь? -- робко спросила Нюра, мать Нюты; а больше
никто ничего не сказал, даже Самойло молча пересел и закурил папиросу. Что
думали другие, не знаю; но у меня было странное чувство -- как будто и эта
ее выдумка в порядке вещей, так и должна кончиться такая ночь, и Марусе все
можно. Я сидел на передней перекладине, ближе всех к носу плоскодонки, прямо
надо мной шуршали ее батисты; ничего стыдного нет признаться, что пришлось
закусить губу и сжать руками колени от невнятной горячей дрожи где то в
душе. Говорят, теперь ни одного юношу из новых поколений это бы не
взволновало, он просто сидел бы спиной к девушке и спокойно давал бы ей
деловые советы, как удачнее прыгнуть в воду; но тогда было другое время. Ни
одному из нас четырех и в голову не могло прийти говорить с нею в эту минуту
-- это бы значило почти оглянуться, это не по дворянски. Белоподкладочник,
сидевший со мною, вдруг опять запел; я понял, что это он бессознательно
хочет заглушить шорох ее платья, и он в ту минуту сильно поднялся в моем
уважении. Молчали тоже Нюра и Нюта, а лиц их я не видел, только заметил, что
они для защиты ближе прильнули друг к дружке, словно марусина дерзость и с
них срывала какие-то невидимые чадры.
-- Аддио навсегда! -- крикнула Маруся, и меня обдало брызгами, а вдоль
лодки с обеих сторон побежали бриллиантовые гребни.
Слышно было, что она уплывает по мужски, на размашку:
хороший, видно, пловец, почти бесшумный; по ровным ударам ладоней можно
было сосчитать, сколько она отплыла. Десять шагов -- пятнадцать -- двадцать
пять.
-- Маруся, -- тревожно позвала Нюра или Нюта, -- зачем так далеко...
Оттуда донесся ее радостный голос:
-- Нюра, Нюта, глядите, я вся плыву в огне; жемчуг, серебро, изумруд --
Господи, как хорошо! -- Мальчики, теперь можете смотреть: последний номер
программы -- танцы в бенгальском освещении!
Что-то смутно-белое там металось за горами алмазных фонтанов; и глубоко
под водою тоже переливался жемчужный костер, и до самой лодки и дальше
добегали сверкающие кольца.
Нюра спросила, осмелев: -- не холодно?
-- Славно, уютно, рассказать нельзя... -- Она смеялась от подлинного
игривого блаженства. -- Теперь отвернитесь: я лягу на спину -- вот так -- и
засну. Не сметь будить! -- Через минуту тишины она добавила, действительно
сонным сомлевшим голосом: -- я бы рассказала, что мне снится, только
нельзя...
А когда подплыла обратно к носу лодки и ухватилась за борт, у нее не
хватило мускулов подняться, и она жалобно протянула: -- Вот так катастрофа.
-- Мы вас вытащим, -- заторопились Нюра и Нюта, подымаясь: но еще
больше заторопилась Маруся:
-- Ой нет, ни за что, да у вас и силы не хватит. Не вы...
Она не сказала, кто; но Самойло молча поднялся, бросил папиросу в море
и пошел к ней, переступая через сиденья и наши, колени. Он сказал отрывисто:
"возьми за шею"; плоскодонка резко накренилась вперед, корма взлетела
высоко; он вернулся обратно и сел на прежнее место на дне.
-- Еще минутку, не сердитесь, -- говорила позади нас Маруся, -- надо
обсохнуть. -- Голос у нее был как будто просящий, но под ним чувствовалось,
что она все еще смеется от какой то своей радости.
Минута прошла (студент опять запел), потом опять зашуршало, и еще через
минуту она шумно соскочила на дно, воскликнула: -- Готово -- ангелы вы
терпеливые! -- схватила моего соседа за голову, откинула ее назад и
поцеловала в лоб, прибавив: -- относится ко всем.
Но еще это был не конец той ночи.
XIV. ВСТАВНАЯ ГЛАВА, НЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ
Честно: эту главу пишу только по чистой трусости. Я уже раза три
начинал продолжение той ночи, но оно мне трудно дается, робею; три страницы
бумаги только что разорвал. Для передышки напишу пока о другом. Один критик,
разбирая книжку моего производства, указал с укором на большой недостаток:
нет описаний природы. Это было лет десять тому назад, но мое самолюбие
задето: надо попробовать. Конечно, такая глава -- не для читателя: читатель,
несомненно, описаний природы не читает; я, по крайней мере, всегда их при
чтении безжалостно пропускаю. Я бы мог, ради упомянутого самолюбия,
разбросать по разным местам этой повести десяток пейзажных воспоминаний, но
это была бы ловушка; самое добросовестное -- выделить их в особую главу (тем
более, что оробел и хочу сделать передышку), и главу честно так и назвать
вроде "не любо, не слушай".
Летом наш берег... (Летом: что зимою, того я знать не хочу. Я очень
люблю жизнь вообще, и свою жизнь особенно люблю и люблю ее припоминать, но
только с апрелей до сентябрей. Зачем Бог создал зиму -- не знаю; Он, бедный,
вообще много напутал и лишнего натворил. Большинство моих знакомых уверяют,
что им очень нравится снег: не только декоративный снег, верхушка Монблана,
просто белая краска на картине, можно полюбоваться и отвернуться, -- но
будто бы даже снег на улицах им нравится: а по моему снег -- это просто
завтрашняя слякоть. Я помню только лето).
114
Летом наш берег, глядя с моря, представляет сочетание двух только
цветов, желтого и зеленого; точнее -- красно-желтого и серо-зеленого. Берег
наш высокий, один сплошной обрыв на десятки верст; никак теперь издали не
могу сообразить, выше ли двухсот футов или ниже, но высокий. Желтый песчаник
его костяка редко прорывался наружу, обрывы больше облицованы были той самой
красноватою глиной, а на ней, в уступах или в расщелинах, росли рощицами
деревья и кусты. Что за порода преобладала, из за которой общий облик
получался чуть-чуть сероватый, не знаю; может быть, дикая маслина. Господи,
какие чудеса палитры можно создать из двух только оттенков! Однажды с лодки
я засмотрелся -- в тот час солнце освещало обрывы под особенным каким то
углом -- и вдруг мне представилось, что все это не глина и не листва, а все
из металла. Спит у Черного моря, раскинувшись, великан, и это его медная
кираса. Давным-давно спит, сто лет его поливали дожди, и во впадинах меди
залегла густыми пятнами ярь. Как то раз, уже много лет после разлуки с
Одессой, я увидел эту самую радугу из двух цветов в Провансе и едва не запел
от волнения, но в вагоне были чужие.
Настоящие каменные скалы помню только внизу, у самой воды или прямо в
воде. Были и гранитные, где мы собирали креветок (их у нас называли "рачки")
и миди, т. е. по ученому "мидии". Но больше и скалы были из рыхлого
песчаника; самая высокая называлась Монах, у Малого Фонтана, и каждый год
море смывало по кусочку, теперь уже верно ничего не осталось. А еще были
"скалы" из какой то зеленоватой глины, мы ее называли "мыло", и в самом деле
можно было отломать пригоршню и намылиться, даже в соленой воде.
Конечно, была и третья краска -- море; но какая? Синим я его почти не
помню, хорошо помню темно-зеленым, с золотистою подкладкой там, где сквозили
полосатые мели. Кто то удивлялся при мне, почему наше море назвали Черным: а
я своими глазами видел его черным, прямо под веслами и на версту вокруг, и
не в бурю или в хмурый день, а под солнцем. Но, по-моему, наше море надо
было смотреть тогда, когда оно белое. Надо встать за час до восхода, сесть у
самой воды на колючие голыши и следить, как рождается заря; только надо
выбрать совсем тихое утро. Есть тогда четверть часа, когда море белое, и по
молочному фону простелены колеблющиеся, переменчивые полосы, все тоже
собственно белые, но другой белизны: одни с оттенком сероватой стали, другие
чуть-чуть сиреневые, и редко-редко вдруг промерещится голубая. Постепенно
восток начинает развешивать у себя на авансцене парадные занавески для
приема солнца, румяные, апельсиновые, изумрудные -- Бог с ними, я и слов
таких не знаю по-русски; и, отражаясь, весь этот хор начинает, но еще
смягченными, чуть-чуть отуманенными откликами, вплетаться в основную белую
мелодию моря -- и вдруг все загорится, засверкает, и кончено, море как море.
-- Это я лучше всего видел, когда рыбак Автоном Чубчик вез меня с Марусей к
ней на дачу после ночи у меня в Лукании; но я забегаю вперед.
В описаниях природы принято называть по именам растения; я когда то
умел, только имена были все, кажется, не настоящие. Был, например,
плебейский красный цветок, на высоком стебле, а вокруг цветка колючий
ошейник: его звали "турка" -- идешь по тропинке и палкой сбиваешь турецкие
головы; однажды я сбил три сразу одним ударом, как пан Лонгинус Подбипента,
герба Зерви-каптур, у Генриха Сенкевича. Или был такой куст, по имени
"чумак": если потереть листьями руки, они вкусно пахнут гречневой кашей.
Лучше всего, однако, не ломать головы над именами: если просто лечь на спину
и зажмурить глаза, одна симфония запахов крепче свяжет тебя навсегда с
божьим садоводством, чем целый словарь наизусть.
Из божьего скотоводства самый прекрасный зверь у нас была ящерица.
Оттого ли, что в Европе другая порода, или просто оттого, что сам я старею,
но вот уже, сколько лет и сколько стран, ящерицы попадаются только серые.
Наши на Черном море были пестрые: самоцветная смарагдовая чешуя, хвост и
мордочка, а горло и брюшко в переливах от розового до золотистого. Однажды
вечером, еще второклассники в Лукании, наловили мы нарочно десяток, заперли
в крепости и битый час освещали их толстыми бенгальскими спичками, красными
и зелеными; перепуганные зверьки то шмыгали от стенки к стенке, то застывали
на месте, и такое было это пьяное празднество красок, какого я с тех пор и в
столичных феериях не видел, где режиссеры почитались мастерами color scheme
и антреприза не жалела тысяч.
Еще был один хороший занятный зверь, но совсем иной -- краб, и жил он в
подводных расщелинах массивов. Массивы -- это громадные каменные кубы,
которыми на много верст в длину облицованы берега, молы и волнорезы нашего
порта; под ними ютились камбала и бычок, даже скумбрия или паламида ("или":
когда идет паламида, скумбрии не будет -- паламида ее съела); но больше
всего было крабов. Мы их удили при помощи камня, шпагата и психологии... но
я уже где то в старом рассказе это описал: и так слишком много повторяюсь.
Посидеть бы теперь на массивах полчаса; я бы и крабов не стал беспокоить:
только посидеть, свесив босые ноги, прикоснуться, как Антей, к земле своего
детства.
Еще было одно Черное море, и даже Азовское при нем, с проливом, как
полагается, но без воды: это были две большие котловины в Александровском
парке, нарочно не засаженные ни деревьями, ни травою: там мы гурьбами играли
в мяч... Господи, как это безжизненно выходит по-русски: "играли в мяч". Не
играли, а игрались; не в мяч, а в мяча; даже не игрались, а гулялись; и в
гилки гулялись, и в скракли, и в тепки; впрочем, и это я уже где то
описывал. Когда всю жизнь пишешь и пишешь, в конце концов слово сказать
совестно. Ужасно это глупо. Глупая вещь жизнь... только чудесная: предложите
мне повторить -- повторю, как была, точь-в-точь, со всеми горестями и
гадостями, если можно будет опять начать с Одессы.
Кстати, уж раз передышка: та песня про "лаврика" столько вертелась у
меня на пороге Памяти, так просилась на бумагу после того, как я мимоходом
ее помянул, что я не выдержал: ночь отсидел, и приблизительно восстановил.
Зато теперь буду считать ее своим произведением: по моему, лучший из всех
моих поэтических плагиатов. Правда, иногороднему читателю нужен для нее
целый словарь -- кто из них, например, слыхал про "альвичка", разносившего
липкие сласти в круглой стеклянной коробке? Но, в конце концов, я эту
повесть и вообще не для приезжих написал: не поймут, и не надо. Вот та
песня:
Коло Вальтуха больницы
Были нашие дворы.
В Нюты зонтиком ресницы,
Аж до рота и догоры.
Ей з массивов я в карманах
Миди жменями таскал,
Рвал бузок на трох Фонтанах,
В парке лавриков шукал.
Лаврик, лаврик, выставь рожки,
Я свару тебе картошки.
Откогда большая стала,
Шо то начала крутить:
То одскочь на три квартала,
То хотить и не хотить.
Я хожу то злой, то радый,
Через Нюту мок и сох...
А вже раз под эстокадой
Мы купалися у-двох.
Лаврик, лаврик, выставь рожки,
Горько мышке в лапах кошки.
На горе стоить Одесса,
Под низом Андросов мол.
Задавается принцесса,
Бу я в грузчики пойшел.
Раз у год придеть до Дюка,
Я вгощу от альвичка...
И -- табань, прощай разлука:
Через рыжего шпачка.
Лаврик, лаврик, выставь рожки,
Хто куплял тебе сережки?
Год за годом, вира-майна,
Порт, обжорка, сам один...
Тольки раз шмалю нечайно
Мимо Грецка в Карантин --
У Фанкони сидить Нюта,
На ей шляпка, при ей грек.
Вже не смотрить, вже как будто
Босява не человек.
Лаврик, лаврик, выставь рожки,
Разойшлись наши дорожки.
XV. ИСПОВЕДЬ НА ЛАНЖЕРОНЕ
Месяц над республикой Луканией взошел поздний, горбатый, но необычайно
яркий.
Трудно было пробраться среди сплошного кустарника, диких груш и маслин,
акации, бузка и черемухи. Акация уже отцветала, в голубоватой лунной тишине
стоял только намек на ее недавнее владычество. Было так безлюдно, как будто
и вообще забыл весь мир о Лукании, даже днем сюда никто не заглянет:
действительно, высокие шелковистые травы заполнили и дно ложбины, а в мое
время оно всегда было утоптано. Кругом со всех сторон толпились кудрявые
холмы, не видать и не слышно было ни моря, ни дач, ни города; пока мы шли
сюда, еще доносилась откуда то издали музыка на гулянье, но теперь и оркестр
уже разошелся по домам, после полуночи.
-- Дуетесь? -- спросила Маруся, все тем же голосом подавленной
внутренней радости.
Назад она велела грести не к ним на дачу, которая лежала много дальше
на юг, а сюда; выскочила на берег, потянула за руку меня, а остальным велела
плыть куда угодно. "Он меня проводит домой еще на этой неделе; если кто
завтра увидит маму -- велите ей не беспокоиться, младенца не будет". Они
послушались и уплыли, отсалютовав sans raneune -- так она давно всех
воспитала; но мне было не по себе.
-- Не ворчите, -- просила она, держа меня под руку и прижимаясь. --
Дома ведь не беспокоятся. (Это была правда, с компанией на лодке в их
беззаботной семье часто на всю ночь пропадали не только Маруся, но и
младшие).
-- Разве я ворчу?
-- Вроде. Вы... "молчите против меня". А как раз сегодня нельзя,
сегодня надо меня все время по головке гладить. -- Я знаю, в чем дело. Вы
боитесь, как они подумают: вот, наконец, и его Маруся в "пассажиры" взяла --
не спасся! Так?
Я признался, что так; но от близости ее лица, от лунного света и всей
красоты и тишины кругом, досада моя быстро уже выветрилась.
-- Сядьте, -- приказала Маруся, -- а я приклоню буйную голову на ваши
колени -- это ведь не такая уж великая вольность, правда?
Я разложил пиджак по траве, а сам присел на кочке; она легла, долго
укладывала голову у меня на коленях, все время беззвучно смеясь чему то
своему; наконец устроилась, облегченно вздохнула, закинула руки и взяла обе
мои: -- "удобно?"
-- Очень; а вам?
-- О, мне страшно уютно. Как там, в воде, когда я купалась; только еще
лучше. А вы на меня сердились за купанье с лодки?
Я высвободил одну руку и сделал жест, будто нарвал ее за ухо: -- Вот и
все, теперь вы прощены. -- Она тихо засмеялась и потребовала: -- А руку
отдайте обратно, это часть моего уюта. -- Потом оба мы замолчали и
засмотрелись. По писательской привычке всегда придираться, я хотел было
сказать себе с насмешкой, что все тут у нас, как по книжке, -- летняя ночь,
долина, эхо запаха отцветающих цветов, даже с луною, и ни души на версту
кругом, -- но не вышла насмешка; я вдруг почувствовал, что эти старые краски
божьей палитры и в самом деле хороши, лучше всего другого на свете; нет у
меня тут иронии в душе -- в душе литургия. И еще одно сообразил я тогда, в
первый раз за жизнь: что молодость -- не просто счет годам, а какая то
особая, сущая, наличная эссенция, -- что будет время, когда ее не станет,
зато сегодня она во мне и в Марусе, и вся долина и небо над нею служат и
поклоняются нам.
Маруся подняла ко мне глаза и спросила шепотом, очень естественно, как
будто это совсем разумный вопрос:
-- Можно поплакать?
-- Можно.
Она покрыла глаза моими руками; щеки у нее были прохладные, ресницы
ласково щекотали мои ладони. Плакала ли она, не знаю; плечи иногда чуть-чуть
вздрагивали, но это не доказательство. Молчали мы долго; вдруг она отвела
мои руки, опять подняла ко мне глаза -- действительно влажные -- и опять
шепнула:
-- Милый... побраните меня изо всей силы.
Я спросил, тоже вполголоса:
-- За что?
-- Нагнитесь ближе, а то букашки подслушают. -- За все, что вы обо мне
думаете; или думали бы, если бы не были такой глупый и добрый и...
посторонний.
-- Я не посторонний!
-- Я лучше знаю; но теперь не о вас, теперь обо мне. Побраните!
-- Зачем это вам?
-- Так. Нужно. Иначе начну колотиться головой о стволы.
Что с ней творится, я не понимал, но видно было, что это не игра, не
приемы: о чем то она взаправду изголодалась -- ей надо помочь, надо вторить.
Но и само собой уже вторилось, помимо умысла -- меня уже захватило все
колдовство часа и округа и ее близости. Я спросил послушно:
-- Подскажите, за что бранить?
Она открыла глаза:
-- За эту выходку на лодке; за то, что всегда всех дразню и щекочу и
нарочно взбалтываю муть. За то, что я вся такая... захватанная руками.
Правда, захватанная?
Я молчал.
-- Повторите, -- просила она, сжимая мне руки изо всей силы. -- "Муть".
"Захватанная".
Я молчал.
-- И еще: "...недорогая". Повторите!
-- Маруся, -- ответил я резко, -- вы откройте глаза и посмотрите, кто с
вами. Это я, а не черниговский дворянин, столбовой или стоеросовый или как
это у них называется, по имени Алеша.
-- Совсем он не стоеросовый, -- шептала она, -- не смейте. Он прав.
Я молчал; я действительно злился.
-- Разве не прав? Разве это все -- про меня -- не подлинная правда?
-- Даже если "правда", -- сказал я, -- это еще не значит, что "прав".
Так часто бывает: прикоснешься к человеку наудачу -- а попадешь именно
в нервный узел боли. Вероятно, эти слова мои отозвались на то самое, что ее
мучило. До сих пор, если напрягу память, почти слышу ту ее долгую страстную
исповедь и защиту; наизусть ее помню. Ее лицо с закрытыми глазами, когда она
говорила, было страшно серьезно: не я и даже не "Алеша" стоял тогда пред нею
и обвинял, а что то иное, чего до тех пор я за нею не знал.
-- ...Бог мне свидетель: я не дразню нарочно и не щекочу. Я живу и
смеюсь и... дружусь так, как само выходит. Если выходит гадко, значит я сама
в корне гадкая, Бог меня отроду проклял; но я ничего не делаю для цели.
-- ...И никого я не ушибла. Вот они все мысленно предо мною сейчас
наперечет, весь... список; кому из них хуже стало от того, что я была с ним
-- такая? Покутили месяц, месяц потом потосковали, а теперь благодарны и за
хороший час, и за конец. Я не глубокая, я не отрава на всю жизнь: я --
рюмочка вина пополам с водою; отпил глоток, встряхнулся и забыл. Неужели нет
и для таких права и места на свете?
-- "Захватанная руками": хорошо, пускай. А я иногда так думаю: будь я
большая певица, и пришел бы ко мне друг, просто обыкновенный приятель, и
попросил бы: "спойте мне, Маруся", -- что тогда: можно спеть или не надо?
Можно подарить чужому что то от моего существа? Все скажут: можно. А разве
талант не ласка? Еще, может быть, гораздо святее и секретнее, чем ласка. Для
меня ласка -- простая деталь дружбы; пусть я гадкая, но это правда.
Я знал, что она умница, но до тех пор она никогда не говорила при мне с
такой сосредоточенной убежденностью; я и не подозревал, что есть в ней такая
своя работа мысли. Я спросил:
-- Это софизмы, или вы вправду так думаете?
-- Я клянусь.
Вдруг она открыла глаза, отпустила мои руки, прижала к груди свои
кулачки и заговорила вслух:
-- Я вам в другом исповедаюсь; этого еще не сказала никому. Ласки мне
не жалко, это мелочь -- как доброе слово, как улыбка, или сахарная конфетка.
А вот, если бы действительно был у меня талант, что то единственное,
неповторяемое, избранное -- вот когда была бы я скупая! Может быть, и в
самом деле не только для гостя бы не пела -- и на концерте совестно было бы
выступить, выдать людям свою настоящую, настоящую тайну. Я бы, может быть,
спряталась тогда в темном углу от всего света; ждала бы праздника -- ждала
бы того мне Богом назначенного рабовладельца, про каких пишется в романах;
он один бы и слышал, как я пою, и ноги бы я ему целовала за слово похвалы:
о, Маруся тоже знает цену святым вещам, только уж это пусть будут большие
святыни!
Она несколько раз разжала и снова стиснула пальцы, словно что то хватая
в полную нераздельную власть, и глаза ее смотрели на меня торжествующе. Я
осторожно поднял одну из ее рук, поднес к губам и поцеловал.
-- Оправдана? -- спросила Маруся, опять укладываясь; и опять уже все в
ней ликовало внутри, и опять месяц со всеми звездами на небе и вся зелень
вокруг и я любовалась одной Марусей.
-- Верните руки, -- шептала она, -- а то мне одиноко... -- И снова она
тихо смеялась, прижимая тыл моих ладоней к своим щекам, теперь горячим;
только глаза и виднелись, невыразимо как-то счастливые.
-- Маруся?
-- Что?
-- Можно дальше спрашивать?
-- Все можно.
-- Этот Алеша -- это, значит, и пришел "рабовладелец"?
Она медленно покачала головою:
-- Н...нет. Я ведь не глубокая: "пружина вместо сердца".
-- Но пружина, кажется, очень уж туго закрутилась...
-- Да; но надолго меня и тут не хватит, я себя знаю. А ради одного года
хороших вечеров напутать столько путаниц: крещение, чужие люди кругом на всю
жизнь, дети-мулаты, мои и не мои... Не гожусь я на такие подвиги.
Еще подумала и прибавила, почти про себя:
-- Выходить замуж надо несложно и незаметно и без надрыва.
Я сказал тихо и серьезно:
-- Храни вас Бог, Маруся, -- такую, как есть. Если бы и мог я вас
переделать, я бы отказался. Может быть, каждый настоящий человек молится по
своему. Был Jongleur de Notre Dame. Может быть, и вы такая: это вы по своему
разбрызгиваете кругом тепло, или благодать, -- это вы молитесь по своему,
иначе не умеете и не должны. Сегодня я рад, что никогда до вас не дотронулся
и никогда не дотронусь: зато мой суд крепче; нет на свете девушки лучше вас,
Маруся.
Она порывисто отодвинула мои руки, открыв все лицо: они было полно
жадной благодарности, на ресницах переливались бледной радугой слезы.
-- Милый, милый... Верно или не верно, не знаю, только вы милый.
Вдруг она рассмеялась своей какой то мысли, и объяснила ее так:
-- Хорошо придумано у христиан: исповедь. Но (я стараюсь продолжить
ваши сравнения) снять с себя все -- вот как я на лодке -- ведь и это иногда
может быть исповедью?
-- Может, -- ответил я уверенно. Еще накануне я бы не понял, почему это
"исповедь", но теперь мне все казалось ясным, что бы она ни предположила.
Кто то осудил ее, сказал ей, что это все нечистое; и она зовет в судьи Бога,
и ночь, и море, и требует оправдания: разве я нечистая? Вероятно, я вспомнил
при этом Фрину; должно быть, и ей сказал про суд над Фриной; во всяком
случае, понял и ответил уверенно: -- Может!
-- Я с утра еще, -- прошептала она (утром получила то письмо), -- с
самого утра бунтовала и мечтала об исповеди; оттого и бросилась в воду,
оттого и затащила тебя сюда... и еще не сыта.
Постепенно ее выражение менялось, уходило вглубь, что то напряженное,
сосредоточенное проступило в глазах, как будто ей сейчас будет по
счастливому больно.
-- Нагнитесь.
Она мне прошептала на ухо:
-- Вам я никогда ничего не подарила. Можно? Не так, как всем -- по
иному?
-- Можно.
-- Закройте глаза.
Сквозь стучащие виски я слышал опять тот же шорох, что на лодке, --
чувствовал, как она передвигается и поворачивается у моих колен; отчего-то
сладко не хотелось, чтобы эта минута кончилась и она позвала "откройте"; или
да, хотелось -- но потом, не сейчас. Она и не звала; уже снова не
шевелилась, и шорох умолк, но не звала, а сначала тихо сказала:
-- Страшный суд над Марусей. Жить не захочется, если вы подумаете, что
я "дразню"; это не то... Теперь откройте глаза.
Я послушался. Меня поразило ее выражение -- нахмуренное, тревожное,
почти страдальческое. Как раньше на лодке, снова мне чудилось, что все нервы
мои в голове и в груди дрожат до струнного звона. Я был не ребенок; в Риме,
на Бабуино, однажды в лунную ночь пустил меня в студию сумасшедший художник,
когда чочара Лола, il piú bel torso a piazza di Spagna, ему позировала
для шекспировской нищенки у ног легендарного короля; но и Лола, тоже только
в лунный свет одетая до пояса, была не краше Маруси. Опять я поднес ее руку
к губам; так сделал и тот король на картине.
-- Я должна была, -- шепнула Маруся, -- не сердитесь? Но она по лицу
видела, что "не сержусь", и опять уже смеялась. Вдруг и мне стало легко,
словно все так и должно быть; я почувствовал, что снова могу с ней быть и
говорить и шутить просто и свободно: только в висках еще бьется, но и это не
стесняло.
-- Дай обратно руки; обе!
-- На, Маруся; только -- чур?
-- Почему? -- Она счастливо смеялась. -- Я не добиваюсь; но почему
"чур"?
-- Каждый любит молиться по своему, -- не так, как молились до него
другие.
-- Хорошо. Обещаю. Но говорить можно все?
-- Говори.
-- Нравлюсь?
-- Сама знаешь.
-- И не боишься, что ушибу на всю жизнь?
-- Руки коротки, -- смеялся я.
Она мне сделала гримасу:
-- Или бульон у тебя вместо крови. -- Нет, нет, это я так себе
стрекочу; не сердись. А вы мне навсегда останетесь другом? Когда я забьюсь в
темный угол -- приедете навестить?
-- Разве уж решен темный угол?
-- Будто ты не знаешь, за кого я замуж пойду, и скоро.
-- Что скоро, не знал; а за кого, сегодня на лодке догадался.
-- Благословишь?
-- Все, что соизволит Маруся, -- благословляю.
Вдруг мне захотелось задать еще один вопрос, и она поняла:
-- Говори. Вы сегодня мой, все мысли мои.
-- Я опять об Алеше; потому что вы сказали про бульон. Это, должно
быть, правда, все мы такие в нашем этом кругу: раса, что ли, устарела. Но
другое дело чужой. Кто их, печенегов, знает: у них, может быть, сердце
вместо пружины? Разобьешь -- не починишь?
Она сожмурилась, вся вытянулась, всеми зубами закусила губу -- что-то
волчье или беличье, первобытное, было в ее лице на мгновение.
-- Все равно, -- прошептала она, -- будь, что будет, -- попляшу...
...На рассвете я вытащил из куреня над берегом старого приятеля моего
рыбака Автонома Чубчика; он дал нам по куску вчерашнего житняка с брынзой и
отвез к Марусе на дачу, и она всю дорогу сидела тихонько и про себя
улыбалась.
Осенью того года я очутился в Берне; а туда попал из Италии, где провел
очень забавный месяц.
На сентябрь ожидался визит Николая II-го к итальянскому королю; и когда
в Риме об этом было торжественно объявлено в палате, кто то с крайней левой
закричал: -- Предупредите в Петербурге, что мы его освищем! -- Вся
благомыслящая половина Монтечиторио ответила хохотом на такую похвальбу.
Говорили после, что именно этот взрыв веселья и сыграл решающую роль: выкрик
того депутата был экспромт и отсебятина, все бы о нем забыли, но в ответ на
хохот -- крамола решила поставить на своем. По всей стране начались митинги
с резолюциями: освистать. Радикальная печать уверяла, будто в лавках
тысячами раскупаются свистки и свистелки; будто правительство думало
запретить вольную продажу этого товара, только воспротивился министр
юстиции. Печать умеренная, с другой стороны, намекала, что в римских тюрьмах
заготовлено очень много вакантных помещений, и накануне визита будет великая
чистка. Не только в кафе Араньо, но в каждой харчевне гул стоял из за спора
между свистунами и рукоплескателями. Очень забавный месяц.
Раз я, помню, пошел на Монтечиторио полюбоваться на очередной
парламентский пандемониум. Спектакль удался на славу: президент обеими
руками тряс свой колокол, но и звона не было слышно из за хоровых усилий со
всех радиусов палаты. На галерее среди публики ходили пристава и зорко
следили, чтобы мы, посторонние, как-нибудь не вмешались в эту
законодательную процедуру; но, воистину, если бы вдруг сосед мой справа
запел во все горло "Карманьолу" или "Боже царя храни", пристава разве бы
только по движению губ догадались о таком нарушении тишины и благолепия. --
Этот сосед справа, кстати, оказался моим старым душевным приятелем: так он,
по крайней мере, сам считал -- едва не обнял меня, когда я сел рядом, жал
мне обе руки и что то оживленно говорил; но что говорил и даже на каком
языке, осталось тайной между ним и всеслышащим Ухом небесным. По виду,
однако, был это несомненный итальянец, и лицо его мне было смутно знакомо.
Вдруг, в самый апогей грохота, он меня толкнул и указал на крайнюю
левую, и по губам его я разобрал имя: Ферри. Я посмотрел туда: тощая
верстовая акробатская фигура знаменитого криминолога стояла не на сиденье
даже, а на пюпитре, -- он обеими руками вроде как бы придерживал ближайших
соседей, а они возбужденно переталкивались с таким видом, словно кричали
друг другу: вот сейчас оно произойдет! Ферри был когда то моим профессором,
чудовищный голос его я знал, но тут не верилось, -- тут и сирена океанского
парохода, казалось, пропала бы втуне. Однако я ошибся: он открыл рот -- и не
с его места, а откуда то из средины потолка понесся совершенно стальной
звук, отчетливый даже без усилия, точно сделанный из другого материала или
раздавшийся в четвертом измерении, -- звук, которому просто нет дела до
других шумов человеческих, они ему не мешают, он сквозь них проходит без
задержки, вроде луча сквозь воздух или ножа сквозь масло:
-- А-мы-е-го-о-сви-щем!
Сосед мой почему то махнул рукой, горячо со мной попрощался за обе руки
и убежал.
Около того времени в газетах проскользнула весть, что в Рим приехал
синьор М.-М.: фамилия двойная, российская, и тогда уже и в России, и в
Италии далеко небезызвестная. Этого М.-М. знал и я лично, хотя гордиться бы
знакомством не стал. Еще задолго раньше, в годы студенчества, представил
меня ему приезжий русский писатель, так же, как и я, невинный и
неосведомленный по части личного состава отечественной охранки за границей.
Помню, как то мы вдвоем удивлялись, что за странная официальная должность у
синьора М.-М.: на карточке начертано что то вроде "уполномоченный при святом
престоле" -- хотя, конечно, не посол при Ватикане; а занятие его состояло
как будто в заведывании унаследованным от Речи Посполитой старинным
подворьем на via dei Polacehi -- которым на самом деле заведывал ничуть не
он. Но мало ли бывает чудес в дипломатии; а господин это был уютный и
ласковый. Только после, в России, узнали мы о его подлинной роли... За кем
он тогда, состоя "при святом престоле", чинил слежку в Риме, где так мало
было русских, я и сейчас не знаю; но теперь, в ожидании царского визита,
ясно было, зачем вновь пожаловал: разведать на месте, освищут или не
освищут.
Свою должность он, очевидно, исправлял добросовестно. В Риме у него
самого было много знакомых; был и специальный туземец-осведомитель, которого
я тоже когда то встречал у него в отеле, некий дотторе Верниччи. Вдвоем они
обследовали все точно и донесли честно: освищут. В один невеселый день было
объявлено, что визит не состоится: забавный месяц кончился, и я уехал по
личному делу в Берн.
Здесь я тоже в юные годы провел один семестр, еще когда университет
помещался в одном почему то здании с полицией. Я разыскал много старых
знакомых из политических эмигрантов; но, как и аlmа mater уже давно перешла
в новое и отдельное от участка помещение, так и студенческого состава
"колонии" я не узнал. Первое впечатление было: прифрантились. "Дрипка"
обоего пола была в меньшинстве. Барышни, в мое время все сплошь опрощенки,
теперь причесаны были на высокий гребень; даже на лекции надевали блузки с
прошивочками и юбки с оборками, а на вечеринки являлись прямо в цельных
платьях: уже на горизонте чувствовалось, хоть я этого и не знал, будущее
декольте. На мужчинах мне чего то недоставало, и не сразу я догадался, чего:
недоставало желтоватых картонных воротничков лейпцигской фирмы Мей и Эдлих,
которую в мои годы мы поголовно считали всемирной законодательницей мод, --
а теперь воротнички были на всех явно текстильного происхождения, даже если
за дату последней стирки трудно было поручиться. -- Я пришел в союзную
столовую после обеда, когда было пусто, и нашел на окне кипу книг, очевидно
до ужина оставленных спешившими на лекцию: подбор литературы тоже говорил о
новых песнях. Был, правда, и Сеньобос, и Железнов; но была и истрепанная
книжка "Северного Вестника" эпохи Волынского и Гиппиус (в мое время такой
ереси в руки не брали); были "Цветы зла" в подлиннике; были даже какие то
опусы просто -- эротического содержания -- и то я вежливо еще выражаюсь -- с
очень документальными картинками во всю страницу.
-- Да, -- сказала мне меланхолически деканша колонии, именитая
меньшевичка, -- по-видимому, что то меняется там у вас в России. Приезжают
начиненные декадентщиной, на сходках тараторят о какой то половой
проблеме... впрочем, пока не опасно: потолковав, пока еще расходятся на ночь
по одиночке -- или так я, по крайней мере, полагаю...
Тем не менее, горячо трепыхался и политический пульс. Но тоже по
новому: в мое время все заодно ругали самодержавие, теперь больше бранили
друг друга. Это были первые годы после эсдекского раскола: тут я впервые
услышал названия большевик и меньшевик, в России тогда еще мало известные
вне подполья. "Ваш Ленин -- раздраженная тупица", констатировал один, а
второй отвечал: "зато не пшют, как ваш Плеханов". Насколько я понял разницу,
одни требовали, чтобы переворот в России произошел в назначенный день, по
точно предначертанному плану, и все партийные комитеты "до последнего
человека" должны быть назначены свыше, т. е. из за границы; а другие стояли
за выборное начало и "органическое развертывание" революции. Присмотревшись,
можно было явственно различить в этой пестроте строгую иерархию по степеням
революционной ортодоксальности: никто, конечно, не признался бы вслух, что
считает противника правовернее себя, -- но сейчас же бросалось в глаза, кто
нападает, а кто оправдывается и клянется: "позвольте, я тоже...". Плехановцы
извинялись пред ленинцами, эсеры пред марксистами, Бунд пред всеми
остальными, социал-сионисты разных толков пред Бундом; простые сионисты
числились вообще вне храма и даже не пытались молить о прощении.
Мы, сидя в России, считали, что у нас "весна", у нас "кипит": но отсюда
Россия накануне 1905-го года казалась мелкой заводью, даже не тихим омутом
-- против этой бурлящей словокачки, где не было нужды в намеках, где все
можно сказать крайними словами и напечатать всеми буквами -- и ничего нельзя
сделать непосредственно. За тот осенний месяц в Берне я впервые понял
ядовитое проклятие эмигрантщины, впервые оценил старые сравнения: колесо, с
огромной силой крутящееся среди пустого пространства, именно потому с
огромной силой, что привода нет и нечего ему вертеть; "и сок души сгорает в
этой муке, как молоко у матери в разлуке с ее грудным малюткой". Но
сгоревший сок души не рассасывается, а скопляется и твердеет и прожигает
сознание навсегда; и если так судьбе угодно, чтобы скопом вдруг изгнанники
вернулись на родину и стали ее владыками, извратят они все пути и все меры.
Я вспоминал это часто после, когда видел в Стамбуле, как губили
возвратившиеся младотурки освобожденную Турцию; и позже по поводу русских
событий, -- но глава не об этом, глава, собственно, о Лике.
Однажды я вернулся из Лугано и застал дома телеграмму и письмо, оба из
Одессы. Телеграмме было уже три дня: "Лика Берне Матенгоф-штрассе, там-то;
разыщите, перевела телеграфно двести такой то банк ваше имя. Анна Мильгром".
Письмо было от Сережи, посланное одновременно с телеграммой: он писал, что
Лика бежала из Вологды и добралась до Швейцарии. Помню почти дословно
главные места: "Вообразите, даже не пряталась по дороге: просто умылась -- и
не только жандармы, но и родной обожаемый брат ее бы не опознал...". "А кто
ей деньги достал? Же! Вы меня за шмаровоза держите, а я и добыл, и доставил
куда надо (через коллегу из банды Моти Банабака); а прародителям ни точки с
запятой не сказал, чтобы сердца даром пока не тепались...". -- "А спросите:
где Сережа слимонил такие квадрильоны? Читайте и стыдитесь: в году 52
недели, в колоде столько же карт, и гений остается гением, даже несмотря на
чугунные кайданы, которыми вы оковали свободный полет моей методики...". --
"Если свидание с неукротимой Катариной кончится тем, что у Петруччио на
ланите останется лазурный отпечаток, то сообщаю на основании личного опыта,
что от фонарей помогает арника...". Дальше он сообщал, что у Анны Михайловны
была инфлюэнца, но она выедет в Берн, как только оправится; в другое время
поехала бы Маруся, но она "теперь с глузду съехала -- мореплаватель
причалил: в замке нашем мороз и осадное положение, но об этом расскажут вам,
когда ступите под его готические своды".
Я поспешил в Матенгоф и постучался в указанную дверь на мансарде;
оттуда послышалось "Entrez", такое подлинно и шикарно гортанное, что я
подумал -- не ошибка ли? -- но вспомнил, что у Лики и младших братьев долго
была гувернантка. Я вошел и едва не ахнул. Сережа непомерно упростил ее
перевоплощение: "умылась". Предо мной стояло существо с другой планеты,
изысканно изящное от высокой прически до узеньких туфель на вершковых
каблучках. Так врезался мне в память этот силуэт, что с него, если бы умел,
я бы и сегодня взялся нарисовать моду того времени: высокий воротничок до
ушей, блузку с массой мелких пуговиц впереди, у плеч в обтяжку, у талии
свободную и "перепущенную" -- и рукава тоже сверху тесные, а у манжет
широкие. Теперь уже не нужен был взор художника, чтобы распознать в Лике
совершенно ослепляющую красавицу. Только на руке, которую она мне подала и
сейчас же потянула обратно, я заметил обкусанные ногти: право, единственная
черта, которую я действительно узнал. В самом деле, так она могла не то, что
по Вологде, но и дома по собственной гостиной пройти в полном инкогнито.
По дороге в банк она разговаривала вежливо, но мало, и смотрела перед
собою; о своем побеге не упомянула, о домашних не спросила, а обо мне самом
только одно: когда собираюсь уехать. Сказала, однако, что хочет поступить у
университет.
В банке вышло затруднение. Деньги получились на мое имя -- у Лики не
было, конечно, бумаг; но я совсем забыл, что и сам уехал из России -- уж не
помню по какой причине -- с паспортом коллеги Штрока (жандарм на границе в
Волочиске, помню, долго качал головою на то, что я такой моложавый для
тридцатилетнего). В те счастливые годы можно было кочевать по всей Европе
без документов, но в банке нужно было предъявить нечто солиднее визитной
карточки. Я очень смутился. Можно было, конечно, съездить за кем-нибудь из
знакомых старожилов для установления моей личности; но уже близко подходило
к четырем часам, это значило бы отложить все на завтра, а я чувствовал ясно,
что Лике и одной встречи со мной по горло достаточно, и вообще она тут стоит
и презирает меня за нерасторопность.
Вдруг ко мне подошел -- вернее сказать: подбежал -- элегантный господин
в котелке, схватил меня за обе руки и радостно заговорил по-итальянски. Я
опять узнал того соседа справа из Монтечиторио, и опять сообразил, что где
то встречал его раньше. Он тряс мои руки и расспрашивал, как я поживаю, но я
заметил, что смотрит он не на меня, а на Лику, и притом во все глаза.
-- Простите, я невольно подслушал: у вас тут какая то заминка? Если
надо засвидетельствовать, что вы -- вы, я к вашим услугам: меня тут знают.
Или это нужно для синьорины? Пожалуйста.
И, сняв котелок, он тут же представился Лике, сказав довольно правильно
по-русски:
-- Очень рад быть полезен, люблю ваших компатриотов; меня зовут
Верниччи.
Еще до того, как он произнес это имя, едва только он заговорил
по-русски, я вдруг вспомнил, кто он такой: дотторе Верниччи, соратник
римского М.-М., итальянский сотрудник охранки. Я чуть не расхохотался: нашла
судьба с кем познакомить именно Лику!
Но Лике суждено было сегодня меня удивлять. Во первых, она ему подала
руку не только величаво, но и любезно; во вторых, ответила по-французски,
таким подлинным говором, который, вероятно, убедил бы и природного
парижанина -- во всяком случае, парижанин принял бы ее, скажем, за уроженку
Лиона:
-- Я по-русски не понимаю, зато немного по-итальянски; очень
признательна, перевод действительно для меня.
В одну минуту он все устроил. Лика спрятала деньги и сказала "мерси"
ему, а заодно уж и мне. Он предложил выпить кофе, и я предоставил решение,
конечно, Лике, в полной уверенности, что она откажет, -- а она согласилась,
кивнув головой с совершенно патрицианским снисхождением. Я кусал губы от
смеха и досады, но поплелся с ними; должен сознаться, что они составляли
эффектную пару -- встречные туристы оглядывались (сами швейцарцы на
приезжих, вне дела, не обращают внимания). Верниччи перешел на французский
язык, которым владел недурно; Лика отвечала приветливо -- и главное:
говорила! Раз мне даже показалось, что улыбнулась. Я молчал и старался
понять, в чем дело. Может, на человека из другого мира не распространялось у
нее то озлобленное отвращение, которым она дарила нас -- все равно, как
может и нелюдим любить, скажем, лошадей или кошек? Или смягчили ее три
вологодские поповны? Или просто -- mensehliches, allzumensehliches --
понравился кавалерственный южанин? -- Он был очень корректен: хотя узнал,
что она остается в Берне, но не спросил ни зачем, ни адреса ее, ни даже
имени; зато спросил мой адрес (я сказал, будто уезжаю завтра), дал мне свой
и объяснил, что пробудет в Швейцарии месяца три "по частной надобности".
На улице он откланялся. Я не знал, как быть: соблюсти приличие, т. е.
проводить ее домой? или обрадовать ее и тут же распрощаться? Но она сама
решила мои сомнения: не остановилась у выхода и не спросила меня
многозначительно: "вам в какую сторону?" -- а двинулась по дороге, и я за
ней; и почти сейчас же осведомилась, не глядя на меня:
-- Кто этот господин?
Я объяснил правдиво, и даже извинился за то, что ей пришлось с ним
поручкаться; но вина действительно была не моя.
Вдруг она усмехнулась и сказала:
-- Ничего не имею против такого знакомства. Может пригодиться.
Я довел ее до дома; на прощанье она ни приходить меня не пригласила, ни
поклона своим не передала; однако, еще раз поблагодарила, вытащила руку из
моей руки и ушла к себе походкой царевны.
Из Швейцарии я уехал, но еще долго шатался по заграницам, а перед самым
началом японской войны попал в Петербург.
Марко изучал там уже не персидский язык, а санскрит, и жил в
студенческих номерах. Был ли он еще вегетарианцем, не помню; но душа его
была полна теперь новым увлечением -- он ходил в заседания
религиозно-философского общества. Именами преосвященных, иеромонахов и
иереев он сыпал так, словно обязан и я знать, кто они такие. В номере у него
лежали кипами какие то экзотические тома, и он занимал меня беседами о
ставропигии, автокефалии и роли мирян в соборе; сообщил мне, что в
армяно-грегорианской церкви не один католикос, а два, и кроме того три
патриарха, а при них "вартапеды" шестой и десятой степеней; а вот армянские
мхитаристы в Вене и Венеции -- те другое дело, те монахи-католики (он
презирал католиков). Косвенно заинтересовался он даже иудаизмом, и
восторженно рассказывал мне про "лысого Боруха". Оказалось, в собраниях
религиозно-философского общества, очень популярен некий бородатый еврей, по
прозвищу Борух лысый; в миру он был марксист и считался истребителем Бунда,
но с юности, заодно с непобедимым литвацким акцентом, сохранил огромный
запас цитат из Талмуда и даже каббалы, а в смысле казуистической
изворотливости "бил" (по словам Марко) всех православных академиков. На чем
он их "бил", мне трудно было понять по круглому невежеству моему; но Марко
знал теперь все оттенки различия в восприятии божества между иудейством и
христианством, сопоставлял эманации Шехины с идеей триединости, и вообще был
невыносимо глубок.
Я его не очень слушал, зато присматривался к его обстановке. Странно:
неужели в номерах такая чистеха горничная? Непохоже: в коридоре, в два часа
дня, я пробирался через несколько поколений не подметенного сметья. И не
только опрятность меня поразила, но и зеркальце в бантиках, и картинная
галерея на стене -- все открытки, и все на подбор уездного вкуса: он и она и
луна, дед Мороз в слюдяных блестках, ареопаг голеньких младенцев в позе
деловитой и физиологической; между прочим, несколько поодаль, портрет пухлой
барышни в большой шляпе с тропическим лесом на полях. Я сделал лицо Шерлока
Холмса и спросил без церемонии: -- Соседка?
-- Соседка, -- ответил он и вдруг завозился с книгами на столе. --
Курсистка; т. е., она, видите ли, еще не на курсах, я ее готовлю.
Когда он меня провожал до лестницы, дверь рядом с его дверью
приоткрылась, и выглянула та самая девица. Она была не только пухлая, но и
густо нарумяненная, с подведенными глазами; однако еще в халате, и за нею
виднелась разбросанная кровать и наляпанная вода на полу под принаряженным
умывальником.
-- Я сейчас, Валентиночка, -- сказал ей Марко.
Недели через две я пошел вечером в гости, и там узнал, что на завтра
утром появится в газетах объявление войны. Возбуждение было за столом
огромное -- и, как теперь особенно издали видно, странное: вряд ли
повторялась эта психология когда либо в образованном обществе другой страны.
Семья была коренная русская, хорошего земского направления, и почти все
гости тоже; но война эта их волновала не как собственное личное событие, а
как что то разразившееся рядом, очень близко, вот прямо перед глазами, но
все же не совсем у них; словно заболел сосед по комнате, или словно потрясла
и захватила их, до дна души захватила, драма на сцене: они сидят в партере,
в двух шагах от рампы, но по ею сторону рампы.
Самое странное было, что никто ничего не знал. О Японии помнили по уже
далеким учебникам: привыкли считать ее маленькой страною вроде Голландии, не
понимали, как такая мелюзга топорщится воевать с Россией, и широко
распахивали глаза, слыша нежданно, что там больше пятидесяти миллионов
народу. Не представляли себе и того, что Россия на Дальнем Востоке совсем не
тот великан, -- что туда ведет за тысячи верст ниточка жалкой одноколейки,
по которой медленно будет просачиваться взвод за взводом, еще скупее --
провиант и амуниция. Еще меньше знали, конечно, где Манчжурия и кому она
нужна: если что знали, то устные пересуды о каком то Абазе, о каком то
Безобразове, которые там не то напутали, не то накрали -- а что и как,
неведомо.
И, несмотря на эту, сегодня утром еще несомненную, непомерность между
мелюзгой и великаном, все почему то оживленно предвещали: наших побьют; и
никто во всем доме от этой уверенности не пригорюнился. Там, на сцене, там
побьют; тут у нас, в зрительном зале, насущная забота совсем иная -- если
пьеса провалится и лопнет вся антреприза, нам же лучше... Тогда меня это,
конечно, нисколько не поразило, я ничего иного и не ждал; только теперь,
оглядываясь назад, соображаю, как все это было странно, сколько
нагромоздиться должно было вековых отчуждении, чтобы так извратился
основной, непроизвольный, первоприродный отклик национального организма на
вонзившийся в тело шип.
Еще накануне Марко со мной договорился встретиться на послезавтра за
пирожками у Филиппова; он, конечно, опоздал на час, но я так и знал.
Сетовать не пришлось: у Филиппова я застал знакомого, большого столичного
литератора. Имени не назову, но все его помнят. Был это, по моему (хотя
общее мнение до сих пор другое), человек не подлинно талантливый, а только
зато с крапинами истинной гениальности: самая неудачная и несчастная
комбинация. Талантом называется высокая степень способности что-то хорошо
сделать: он, по моему, ничего хорошо сделать не умел, и все большие книги
его о русских романистах и итальянских художниках, напряженно-вдумчивые, но
никуда не доводящие, будут забыты. Но отдельной строкою он умел иногда
поразить и даже потрясти -- вдруг приподнять крышку над непознаваемым и
показать на секунду отражение первозданности в капле уличного дождя. Я раз
от него (но речь шла о другом авторе) услышал хорошее слово для определения
этой черты: "пхосвэты в вэчность" -- он был выходец хедера и говорил с этим
оттенком. Беседовать с ним, когда в ударе, было большое наслаждение: как
ночью в море плескаться в фосфоресцирующей воде, думал я не раз, вспоминая
прошлое лете.
В тот день он был не просто в ударе, а весь трепетал от волнения.
Подсев к нему, я ждал, что тут уже услышу далеко не вчерашние суждения. Он
всю жизнь страстно рылся в капиллярнейших извивах русской души и мысли; мог
посвятить целую страницу умствованиям о том, что означают черные волосы у
какого то героя "Бесов" ("мертвая крышка между сознанием и бесконечностью");
прочел как то лекцию в Одессе (именно в Одессе!) о какой то иконе "Ширшая
небес", и еще об одной -- кажется, "Панагия" -- и вообще о разнице между
византийской иконописью и славянской (а сбор отдал целиком в пользу жертв
кишиневского погрома); тогда мы и познакомились. Я считал, по простоте
душевной, что такой человек, особенно по еврейской прямолинейности этих
горящих натур, должен стоять за Россию органически, слепо и quand même.
-- Разгром, -- пророчил он вместо того, -- предначертанный разгром. И
совсем не потому, что режим плох: само племя неудачливое.
-- Вы это говорите? вы, который..?
-- О, не смешивайте двух разных ипостасей национального лика. Русские
на высотах зажигают несравненные вселенские огни, но на равнине мерцают
лучины. В этом залог их величия:
косная тусклость миллионов -- ради того, чтобы гений расы тем ярче
сосредоточился в избранных единицах. Полная противоположность нам, евреям: у
нас талант распыляется, все даровиты, а гениев нет; даже Спиноза только
ювелир мысли, а Маркс просто был фокусник.
-- Почему же тогда не явиться у них гениальному полководцу?
-- Современная война -- как современная индустрия: никакой Кольбер не
поможет, и никакой Суворов. Тут нужна инициатива каждого унтера; и больше
чем простая смекалка -- нужен факел осознанной воли к победе в каждой
безыменной душе.
-- Разве его нету-- хотя бы в неосознанном виде?
-- Нету. Этот народ -- богоносец; избитое слово, но правда. А вышнее
богослужение, как в древнем Израиле, осуществляется трижды в году, не чаще.
Бог японца -- земной бог: государство; это сподручный бог, у каждого солдата
в ранце, ежечасно к услугам.
-- Что ж, -- сказал я утешающе, -- за то многие надеются, что поражение
даст нам конституцию.
-- Какая пошлость! Не хочу всех парламентов мира за развороченный живот
одного ярославского мужика. Стыдно и думать об этом: учитывать кровавые
векселя.
-- Господи, но уж если мучиться ярославскому мужику, то хоть недаром...
-- Муки всегда "недаром"; все муки всегда и всюду -- родовые муки; но
незримых родов, где возникают новые стадии проникновения, новые акты
надземных трагедии, а не новые аршины благополучия.
Тут уже мне стало трудно понимать его метафизику, и дальше я не помню;
но вскоре пришел Марко, и тут я, наконец, нашел первого на весь Петербург
цельного патриота. Он даже не извинился за опоздание; и сидел с поднятым
воротом, ибо швейцар в воинском присутствии дал ему понять, что из под его
тужурки высматривает фуфайка, а рубаху надеть он забыл -- очевидно, убежал
из дому еще до того, как встала поздняя Валентиночка.
-- Позвольте, зачем воинское присутствие?
Оказалось, он решил пойти на войну добровольцем: с утра кинулся
наводить справки, только никак не мог еще попасть именно в ту комнату, куда
нужно, и в скитаниях не по тем канцеляриям претерпел уже много поношений; но
видно было, что он приемлет страдания с радостью. Насчет солдатчины он решил
бесповоротно: сегодня пишет домой; завтра пойдет в присутствие с одной
знакомой курсисткой -- т. е. она еще не на курсах, но и т. д. -- она человек
распорядительный и сразу найдет надлежащий стол, где его приведут к присяге
и вооружат и посадят в вагон. То есть, конечно, будет еще обучение; но вряд
ли надолго -- он, видите ли, "учился стрелять" еще тогда в самообороне, на
квартире у Генриха.
Мой собеседник его издали знал, встречал его на религиозно-философских
беседах. Он деликатно усомнился, нуждается ли теперь отчизна в добровольцах;
Марко, отвечая, подошел к предмету с более широкой стороны -- насчет Одина и
Зевса, св. Августина и Будды и шинтоизма и провиденциального посредничества
России. Между ними завязался разговор не для моей темной головы; а я молчал
и думал об Анне Михайловне. Сережа мне, правда, писал, что "марусин
аргонавт" уплыл пока еще без катастрофы, но что "по гулким галереям
дедовского замка бродит еженощно родовой призрак Мильгромов и каждую полночь
вопит дискантом: гевалд!". Невесело там с Марусей; Лика -- Лика; и Сережа --
Сережа, и не раз у матери затуманивались мудрые терпеливые глаза, наедине со
мною, при его имени. Там невесело в их веселом хохочущем доме; а теперь еще
этот остолоп хочет подбавить радости. Мне пришла в голову мысль; я их
оставил за пирожками и богопознанием и уехал к Марко в номера.
Валентиночка смутилась, но приняла меня радушно: Марко хвалил. Теперь
уже было и у нее прибрано; та же пригородная роскошь, что у Марко, но,
конечно, без книг, за то с чайниками, чашечками и канарейкой. Румяна были
наложены заново и плотно, в русых кудряшках торчал бархатный бантик, на
плече другой. Настояла, чтобы я снова пил чай с вареньем, несмотря на
пиршество у Филиппова; и оказалась одесситкой -- судя по говору, с Пересыпи.
"Не люблю выходить", объясняла она, разливая чай, -- "такой поганый народ,
все пристают; конечно, я теперь, чуть что, моментально даю отскочь на три
франзоли". Слово "теперь" у нее повторялось почти в каждой фразе
автобиографического содержания: ясно было, что прежде и теперь (так она и
выразилась) -- две большие разницы.
-- Марко вас на курсы готовит? -- спросил я участливо. -- Фребеличка,
бестужевские, или что?
Она посмотрела исподлобья, не издеваюсь ли я; действительно, сглупил,
не надо было спрашивать.
-- Марк Игнатьевич добрая душа, -- сказала она, и вдруг у нее дрогнул
голос: -- горобчика подберет на улице, так и из него захочет сделать не знаю
что; павлина. Никуды я не на курсы; шить вот хочу поучиться, тольки еще не
умею рано вставать. Он меня в Художественный театр водил, когда москвичи
приезжали -- и то насилу отпросилась.
Ее чистосердечие мне понравилось, и я без обиняков перешел к делу:
чтобы не давала Марко идти в солдаты -- на нее одна надежда.
Валентиночка буквально рассвирепела; в голосе ее зазвенели громкие
ноты, явно занесенные из того ее быта, который был "прежде".
-- Ему в стреляки? И я чтоб его повела в присутствие? Зеньки я ему
вицарапаю... Он! Если есть на Колонтаевской лужа, а он сам на Канатной --
обязательно хлюпнется в тую лужу; как по вашему, извините, говорится:
шлимазель; или в театре я у москвичей слышала: двадцать два несчастья. Да в
него еще тут на ученьи оттуда японская пуля попадет! Я ему...
Дело было в шляпе, Марко спасен; я подивился путаным стезям Провидения
-- не угадаешь, что человеку на беду и что может оказаться на благо. Я взял
с нее слово, что об этой беседе Марко не узнает.
-- Не беспокойтесь, -- ответила она воинственно, -- так богато ругаться
буду, что и про вас забуду.
Больше я Марко в тот месяц не видел; вскоре уехал на юг и там
обнаружил, что дома и не слыхали об этом его проекте: быстро управилась
Валентиночка, даже написать не успел.
Встретились мы с ним опять в Петербурге летом того же года. Я написал
ему свой адрес; на другой день, часа в три, он влетел ко мне сам не свой от
счастья, схватил обеими руками за рукав, утащил из передней в комнату и
сказал, задыхаясь:
-- Знаете, что только что случилось, полчаса назад? Плеве убит, бомбой!
И, подбросив фуражку в потолок, он в голос закричал:
-- Банзай!
Это ура на языке самураев и гейш, самый тогда популярный возглас на
устах читающей протестующей России, стоило целой исповеди. Даже сквозь
искреннюю радость мою по поводу его потрясающей новости, я не мог опять не
подивиться могучему размаху его душевного маятника.
Мы решили пойти пошататься, подслушать, что говорит улица. Но удалось
это не сразу: фуражка его, оказалось, улетела не в потолок, а на вершину
саженного шкафа. Никак нельзя было достать со стула, пришлось придвинуть
стол; но наконец мы вышли.
Улица оказалась в том же настроении, что и Марко и я. Кто шел вдвоем,
те улыбались и одобрительно качали головами; которые встречались и,
останавливаясь, пожимали руки друг другу, с первого слова говорили: Здорово!
-- Но по настоящему вслушаться в людской говор мне не удалось: Марко мешал.
Всю дорогу он мне рассказывал о себе. Он окончательно решил сделаться
брамином. Кроме того, он теперь учится у настоящего йога искусству дышать.
Это, видите ли, самая важная вещь на свете -- вводить кислород во все
закоулки дыхательной системы; это очищает не только кровь, но и серое
вещество мозга; и самую мысль. Каждое утро -- десять минут упражнения; еще
лучше вдвоем, только надо обязательно утром, а вот если кто поздно встает,
тогда хужее...
Через год после того помню большой и страшный день, и помнит его вся
Одесса и вся Россия.
Осень, зиму и весну я провел в вагонах, но домой наезжал и бывал у Анны
Михайловны. Господь ей послал передышку. Лика училась (в Париже, куда
перевелась из Берна), писала редко и сухо, но хоть была, спасибо, там, а не
здесь. Сережа кончал третий курс и вел жизнь многостороннюю, но, по крайней
мере, вне поля зрения моего коллеги Штрока.
Марко уже целый год прожил без новых опасных проектов -- он был в
хороших руках; однако, не совсем без проектов. Он приехал домой на
пасхальные каникулы, и тогда и вышло у него огорчение с табачной фабрикой
Месаксуди. Он узнал, что эта фирма, если прислать ей столько-то тысяч
"картонок" от ее собственных папирос, оплачивает усердному клиенту (или,
скажем, его даме) месяц жизни в Ялте. Марко еще с осени, отказавшись от
теории дыхания, сделался бешеным курильщиком, хотя и до сих пор не умел
затянуться; в Одессе обложил картонной податью всех знакомых, и особенно
привязался тогда к братьям-хлебникам Абраму Моисеевичу и Борису
Маврикиевичу, которые зажигали одну папиросу об окурок другой. Но когда он
собственноручно упаковал пудовый тюк, лично отнес на почту и отправил в
контору Месаксуди, оттуда ему написали возмущенно, что ничего подобного --
где он это вычитал? Он мне тогда признался, что слышал это в Петербурге от
полового греческой кухмистерской; был очень смущен и подавлен, и скоро уехал
на север оправдываться.
Вокруг Маруси было новое поколение пассажиров, такое же веселое, хоть
уж это теперь были помощники-юристы и оперяющиеся врачи; но мне почему то
казалось, что теперь она их держит только в общем вагоне, а в свое интимное
купе, так сказать, не пускает, или редко. О Руницком она мне как-то сказала,
что мать его с сестрой переехали в черниговское имение, и свои редкие
высадки он теперь проводит у них; но больше о нем не говорила со мною и не
рассказывала содержания писем, изредка приходивших с диковинными марками.
-- Слава Богу, -- призналась однажды Анна Михайловна, -- а то за
прошлое лето, когда они жили тут, я, смотрите, поседела.
Я, конечно, не расспрашивал, но из отрывочных ее упоминаний узнал, что
был месяц, когда она вот-вот ждала "землетрясения". Маруся уезжала с ним на
лодке вдвоем и возвращалась перед зарею. Один раз была буря, Анна Михайловна
всю ночь не легла; Маруся приехала на дачу под утро на извозчике и сказала,
что они еще вечером, как только стало качать, пристали к берегу. Мать
тревожно спросила: но... где же выбыли все время? -- и Маруся ответила, что
сидели и болтали в долинке на Ланжероне: близ дачи Прокудина, где жила тогда
его семья. -- Мне, сознаюсь, стало обидно немного, но, в конце концов, ведь
уж не моя была теперь республика Лукания.
Уехал из Одессы и Самойло Козодой: купил собственное
"фармакологическое" дело в Овидиополе, на берегу Днестровского лимана.
Сережа как то гостил у него и привез о нем поэму, из которой я помню только
один куплет:
Так как в разных краях и язык не один,
А изменчив и разнообразен, --
Он, покинув аптекарский здесь магазин,
Там открыл аптекАрский магАзин.
Торик был, как всегда, безукоризненно безупречен. В то лето он перешел
в восьмой класс и усердно работал на медаль; вообще много читал и учился.
Однажды я совсем удивился, увидя у него на столе Ветхий завет в подлиннике и
учебник библейского языка с массой карандашных пометок: никогда этого духу
ни в их семье, ни в их среде не было, и даже я сам у них на такие темы не
заговаривал.
-- Это ж естественно, -- объяснил он в ответ на мои вытаращенные глаза,
-- ведь я еврей, значит полагается и это знать; хотя язык скучноватый.
-- Да вы не сионист ли?
-- Как вам сказать? Столько же сионист, сколько и сторонник гомруля:
если Редмонду нужна автономия, а вам Палестина -- я голосую за; но сам не
поеду, мне это ни к чему.
Тесная дружба его с Абрамом Моисеевичем не ослабевала. Бездетный старик
(сын его, Сема, умер он скарлатины еще в пятом классе) души не чаял в
Торике, забыл ради него свое презрение к "образованию", верил в него,
советовался о делах. Он сказал мне:
-- Это растет лучший адвокат на всю Одессу. У него никогда нет того,
чтобы судить по догадке, по "хохмологии"; это вам, извините, не газетчик, он
раньше все должен изучить. Основательный человек, солидный.
По вечерам в малой гостиной, отдельно от молодежи, по прежнему оба
брата с Игнацом Альбертовичем и другими зерновиками играли в око и в
шестьдесят шесть, или говорили об урожае, или спорили, какой лучше всех был
тенор за сорок лет в Городском театре; Борис Маврикиевич стучал по столу,
утверждая:
-- Другого такого Арамбуро не было и не будет.
-- Бейреш, ты корова, -- отвечал Абрам Моисеевич, -- ты вовсе забыл
Джианини в "Гугенотах".
И оба они , изучая карты и двигая бровями, мурлыкали "У Карла есть
враги", а Игнац Альбертович цитировал что-нибудь подходящее из немецкого
поэта Цшокке, жившего, говорят, еще за сто лет даже до тенора Арамбуро.
Часто приходили Нюра и Нюта, по прежнему двойни с головы до ног, и
поровну тихо, как от невидимой щекотки, смеялись каждому слову Сережи. Кто
то мне сказал, что дома у них нелады с отцом семейства, но ведь они его с
собой не приводили.
Большого дня в одной главе не расскажешь: как уже раз для большой ночи,
понадобятся две, а здесь будет только начало.
Было это летом. Анна Михайловна с мужем уехали в Карлсбад или куда то;
дети жили еще в городской квартире.
В полдень, когда я шел в редакцию, дворник мой -- все тот же Хома --
проворчал мне в догонку:
-- Нечего у такой день валандаться по городу.
Я не спросил, в чем дело сегодня; но на улицах, действительно,
чувствовалось необычное, а в редакции мне рассказали, что на рейде стоит
взбунтовавшийся броненосец, ведет какие то переговоры с властями и грозит
обстрелять город. Коллега Штрок уже побывал в порту и все видел: на шлюпке с
корабля приехали матросы, раскинули палатку и уложили в ней мертвого
товарища; на всех молах толпятся торговые матросы, лодочники, фабричные,
грузчики, сносчики и просто босяки, а полиции нет. От Дюка, вниз по лестнице
и обратно снизу вверх, непрерывно струится толпа молодежи -- сначала город,
теперь двинулись и предместья, и никто не мешает; только на бульваре вокруг
дворца генерал-губернатора стоят большие наряды. Штрок уже точно знал, что
именно телеграфировали власти в Петербург; и что ответа еще нет, но какой он
будет; и что сказал градоначальник полицмейстеру ("сам не знаю, как быть");
и кто убил матроса, и почему бунт, и все. Штрок торопился, хотел это сейчас
же настрочить со всеми разговорами в кавычках; его успокоили -- цензор уже
телефонировал, чтобы ничего не сообщать; он вздохнул, но все таки сел
писать, душа требовала.
В это время прерывисто прокатился над Одессой первый из двух пушечных
выстрелов, пущенных в тот день по городу с "Потемкина". Почти для всех
жителей это был еще ни разу не слыханный звук: и у нас в редакции, и на
последних окраинах показалось людям, что снаряд разорвался тут же во дворе.
Мы выбежали на улицу. Там колыхались громадные толпы: я в первый раз еще
видел тысячи в таком состоянии духа. Словно перст какой то коснулся до нас,
выбрав этот наш город изо всех городов России. "Настало", и честь выпала
нам. Лица, как на подбор, все были напряженные и тревожно-радостные.
Сословия перемешались, хлебники забыли биржу, рабочие высыпали из заводов,
женщины в шляпах и женщины в платочках тесно жались одна к другой; говорят,
и жулики в толпе тогда не таскали, -- может быть и правда. Полиции,
действительно, не было; но казалось, что и сила теперь не справится: куда и
зачем они все напирают, они сами не знали -- толпа несла почему то к
памятнику Екатерины -- но, куда бы ни рвались, уж туда прорвутся и не
отступят.
Это, конечно, только так казалось. Не доходя памятника, масса внезапно
ринулась назад: по мостовой скакали казаки. Меня притиснули к дереву, и тут
я увидел Руницкого с Марусей. Они, видно, переходили мостовую, когда народ
кинулся бежать; но он остановился прямо на пути казаков, обнял за плечо
Марусю и прижал ее к себе. У нее тоже на лице не было испуга, она поправляла
широкую шляпу, которую сдвинул на бок кто то из убегавших. Увидя морскую
тужурку, казаки разделились и обскакали их; сотник, объезжая, нагнулся и что
то сказал Алексею Дмитриевичу, указывая нагайкой в сторону Дюка и порта.
Когда казаки свернули на Дерибасовскую, Маруся подбежала ко мне, а за
ней подошел Руницкий. Оказалось, пароход его прибыл час назад, она его
встречала, заставила обойти с нею весь порт, и они все видели и слышали. Она
мне повторила рассказ коллеги Штрока, но теперь уже с новой чертою: повсюду
на бочках и тумбах стоят ораторы и говорят такие вещи! есть даже барышня,
курносенькая в очках.
-- Не подействует, к сожалению, -- резко вдруг проговорил Руницкий.
Почему не подействует, он не прибавил; но так ясно, как будто бы он это
предо мной отстукал по телеграфу (я не знаю Морза, но другого сравнения
нет), я прочел за его отрывистым раздражением: оттого не подействует, что
все ораторы "из ваших" -- или еще точнее. Вообще видно было, что он
раздражен, а Маруся и тоном речи, и всей повадкой старается его утешить или
задобрить.
Он посмотрел на часы, потом на Марусю вопросительно. Она сказала мне:
-- Обещайте Алексею Дмитриевичу, что вы меня саму одну не отпустите и
доставите домой на извозчике. Ему нужно в контору с отчетом, -- а он боится,
как бы я еще не уехала на броненосец.
Я ответил, что полагалось; и он попрощался, даже не сговариваясь с
Марусей, где и когда они снова встретятся. Это могло означать и то, что они
повздорили, и то, что уже раньше сговорились; я сообразил, что скорее
второе.
Как только он нас покинул, из Маруси словно завод вышел. На дрожках она
сидела подавленная и расстроенная, молчала и я молчал. Только и в ее мозгу
неслышно стучал телеграф, и мне снова казалось, что я понимаю. Вероятно и ей
чувствовалось, что я слежу за ее мыслями, потому что недалеко уже от своего
дома она вдруг заговорила, не глядя:
-- Вы были правы.
Я обернулся к ней, но ничего не спросил. Незачем было спрашивать, все
ясно. Не для широкой степной и морской натуры твои полуподарки, Маруся; или
все, или --
Через минуту она сказала, скорее не мне, а для себя:
-- А я по другому не могу.
Я молчал.
-- Душонка такая, без размаха; на короткую дистанцию, -- прибавила она
злобно.
Я молчал. Она не двигалась, сидела прямо под моей рукой, обнимавшей ее
талию, но впечатление было: мечется. Еще через минуту она с бесконечной
тоской прошептала:
-- Дайте совет... если смеете.
-- Смею, -- ответил я резко. -- Надолго он здесь?
-- Завтра хочет ехать в Чернигов.
-- Так вы мне прикажите сейчас же, хоть на этом извозчике, увезти вас в
Овидиополь; а завтра к маме в Карлсбад.
Она передернула плечами и перестала разговаривать. Мы подъехали к ее
дому; звоня у двери, она мне бросила:
-- Овидиополь, кстати, тоже сегодня здесь.
Не люблю я вспоминать о том дне: суеверно не люблю -- с него началось,
вокруг семьи, ставшей для меня родною, то черное поветрие, которому суждено
было за три года превратить Анну Михайловну в Ниобею, и самый путь моих
друзей окружить и чужими надгробными надписями. Но не люблю того дня и
помимо этой личной боли. Мы его встретили благоговейно, верили, что это Он
-- денница денниц, начало долгожданных свершений. Может быть, исторически
оно так и было; но глупые, неопытные, молодые, мы не предвидели, что хорал
его, начавшийся набатом, в тот же вечер собьется на вой кабацкого
бессмыслия.
Вечером, когда я был дома, зашел за мной Самойло: тоже, оказалось,
случайно приехал за покупками для своего магазина и попал на праздник. Он у
меня был впервые, сесть отказался: на улице ждет вся компания, решили пойти
в парк и оттуда с обрыва глядеть, что будет твориться в порту; говорят в
городе, что -- будет "твориться". Все там, только Сережа-головорез в третий
раз за день ушел в порт, уже прямо по массивам -- все спуски теперь заперты
полицией -- но обещал тоже придти в парк.
Меня что то задержало на пять минут; он ждал, но не садился. Нынче и у
него громко в мозгу стучал явственный для меня телеграфный аппарат, очень
беспокойно стучал; я ничего не говорил, он смотрел в окно и не хотел
садиться. Вдруг он сказал:
-- Мсье Руницкий тоже сегодня приехал из Шанхая, только на один день;
завтра утром уезжает к матери в усадьбу.
А я слушал стуки телеграфа. Хуже всего -- именно этот "один только
день". Если надолго приехал, все еще может рассосаться; но когда утром нужно
проститься, за один день и одну ночь непременно должна повернуться как то
судьба, в одну сторону или в другую. Но на лице у Самойло ничего не
выражалось: из прочной кожи и мускулов сшито было лицо; я ему тоже ничего не
ответил.
В той части парка, что над обрывом, есть пригорок или насыпь, а на ней
стена с широкими зарешеченными арками; у нас ее называли "крепость". Там мы
все кое как устроились, прямо на газоне. Толпы таких же зрителей сидели
всюду вдоль обрыва, или по скату среди кустов, и сдержанно переговаривались.
Ночь была горячая и темная; глубоко под нами в порту горели, как обычно, все
фонари на молах и на судах, дрожа отражениями, а далеко в заливе, на версту
и больше, одиночкой светилась неподвижная группа огней, и люди на нее молча
указывали заново приходящим: броненосец. В свете гаванных фонарей иногда
сновали тени, но никто из нас не захватил бинокля; Нюра и Нюта сказали: "мы
было думали, но неловко, это ж не опера". Из порта шел смутный ровный гул,
где ничего нельзя было разобрать; иногда доносились отдельные выкрики, тоже
неразборчивые; раза два загремели массовые клики, и тогда весь обрыв затихал
и ждал, и только медленно снова пробуждался подавленный говор.
Маруся и Руницкий сидели на разных концах нашей компании; я себя
спрашивал: не помирились? или дипломатия? Он на расспросы Нюры и Нюты, где
какой мол и где та палатка с убитым, больше отмалчивался; Маруся негромко,
но совсем по всегдашнему болтала с соседями из ее свиты -- я опять подумал:
тоже не из рыхлого теста женщина. Самойло молчал по обычаю, и по обычаю
никто с ним не заговаривал.
Вдруг толпа кругом загудела, сотни рук протянулись куда то вниз: там
понемногу расплывалось огневое пятно, и оттуда же, спустя мгновение,
.поднялся тысячный рев, на этот раз долгий, убывающий и опять наполняемый, и
такой по звуку, что и слов не нужно было: ликующий рев.
-- Это они склады у элеватора подожгли, -- резко проговорил Алексей
Дмитриевич, -- а радуются. -- Он обернулся к Марусе: -- Я вам еще днем
сказал, Марья Игнатьевна, что вся шпана перепьется и станет безобразничать.
Освободители...
Странно: порта жаль было и нам, и жаль огромного дня, который не
по-великому как-то складывался: но мы все вдруг почувствовали в эту жаркую
ночь, как потянуло к нам от Руницкого холодом. То же самое сказал бы каждый
из нас, те же слова, с тем же раздражением, -- а не то: как будто на другом
языке, как будто вызов. Я уверен, что у всех в эту минуту промелькнуло в уме
одно и то же слово: чужой. Может быть, оттого, нарочно или бессознательно,
Маруся поднялась и перешла сесть рядом с ним.
Сзади подошел Сережа, только что снизу; он искал нас вдоль всего обрыва
и наконец нашел. Он был в штатском, без шапки, и вообще сегодня
простонародного облика: нарочно, должно быть, так переоделся. В темноте за
ним виднелся другой такой же демотический силуэт, но тот остался поодаль.
Сережа был утомлен и, совсем не по своему, невесел; только речь осталась та
же красочная. Он подтвердил, что в порту еще с захода солнца шибко текет
монополька; уже давно, махнув рукою, подались обратно в город обманувшиеся
агитаторы, "а то уж ихних барышень хотели пробовать в прикуску"; нет уж и
матросов, ни с "Потемкина", ни с торговых судов и дубков -- все поховались
на палубы. Склады подожгли при нем, и радостно, с кликами "вира по малу"; и
еще поджигают. Уверены, что скоро начнется пальба со всех обрывов, но что ж
-- нехай, за то хочь побаловались.
Силуэт позади вдруг меня тронул за плечо и поманил пальцем: Мотя
Банабак. Я отошел с ним подальше. Помня меня с самообороны, он, очевидно,
решил именно со мной поделиться самым, что его, человека бывалого, горше
всего задело:
-- Скажите вашим: зекс. Чтоб опять раздавали трещетки;
бу оны там вы знаете, что галдят? За жидов галдят, холера на ихние
кишки.
Подошел к нам Сережа; Мотя Банабак ему сказал:
-- Ну, я попер, Сирожка.
-- Тикай, -- благословил его Сережа; а тогда тот удалился, пояснил для
моего сведения: -- Пошел в публику подкормиться насчет часиков и кошелечков,
погода на то стала симпатичная.
Мы вернулись к компании; тем временем уже в трех новых местах горело.
Сережа сел между Нюрой и Нютой и заговорил с ними о чем то постороннем, и не
вполголоса, как мы переговаривались до тех пор, а громко; и вдруг я заметил,
что теперь уже вся толпа вдоль обрыва и на склонах гомонит возбужденно
вслух. Оборвалась самородная нитка, с утра связавшая все мысли с мятежным
кораблем и с каким то полуосознанным ожиданием; это прошло, ощущения кануна
больше нет, остался просто редкостный цирк, такого никто никогда не видал --
жаль, не захватили биноклей. Уже слышался кое где смех", особенно ниже, из
кустарника по скату, и в девичьих голосах иногда уже звенела взвизгивающая
нотка -- из привычной гаммы очень темных и очень обыденных вечеров.
Еще опять на минуту замолчала толпа, когда снизу и слева, совсем
недалеко, затрещали первые стаккато пальбы; но только на минуту, сейчас
опять все загудело оживленно и весело. Маруся спросила:
-- Алексей Дмитриевич, это пулеметы?
-- Нет, из ружей; это называется "пачками".
Но она спросила особенным тоном, словно ласково погладила; не для того,
чтобы узнать, пулеметы или пачками, а чтобы словами дотронуться; и в его
ответе уже не было того прежнего лязга -- был бархатный сигнал, давно
долгожданный. Я вдруг заметил, что обе руки Сережи обвились вокруг талий
Нюры и Нюты, и те, что то вместе журча радостным тихим унисоном, опирались
плечами о его плечи: никогда этого не бывало, до того они часто выдавали
себя голосом, иногда взглядом, но не движениями. Некий общий маятник, прежде
залетевший было в чистое сияние высот, быстро теперь падал обратно в
атмосферу уличной пыли. Или нет, глубже: я и на себе чувствовал, что
развязались у меня какие то не только сегодняшние, особые, но и вчерашние,
всегдашние путы: что теперь уже не только то "можно", что можно было
накануне, но и многое такое, чего прежде никогда нельзя было. Я могу
скатиться по склону вон в ту внизу хохочущую под выстрелы группу, которая
полчаса еще тому назад едва-едва перешептывалась, и мужчины и дамы там
примут меня, как своего, и будут продолжать сыпать остроты; молодой юрист,
которого мы привели с собой, уже так и сделал. Какие там путы, какие
правила, когда все ни к чему, земля сотворена из сора и слякоти, маятники
всегда возвращаются, мечта кончается насмешкой; увидишь яблоко -- сорви, а
все остальное насмешка. Если бы теперь у меня спросила совета Маруся...
"Пачки" стрекотали то ближе, то дальше; Руницкий по звуку называл
обрывы: это с Гаванной улицы, это с Надеждинской. Но все время за именами
улиц опять отбивал у него свои другие буквы тот черепной телеграф, так
четко, что еще, кроме меня, двое по крайней мере явственно должны были
слышать: брось их, голубка, брось это все, там у нас в долине доцветает
акация, и сегодня и ты меня любишь по моему.
Маруся поднялась.
-- Уйдем, Алеша; отвезите меня куда-нибудь, где выстрелов не слышно.
Он встал, ничего не говоря, опять такой милый, робкий, трогательный,
каким я видел его несколько лет тому назад у матери-смолянки. Маруся
оправляла зонтиком смявшееся легкое платье. Алексей Дмитриевич прощался;
Нюра и Нюта, которым он, видно, сказал, что завтра уезжает, вежливо желали
ему счастливого пути, остальные присоединялись. Последним он подошел к
Самойло, сказал ему что то любезное, тот молча подал ему руку; Руницкии
осторожно спустился несколько шагов по скату попрощаться с беглым нашим
юристом, и все глядели туда. Вдруг мне бросилось в глаза изменившееся лицо
Маруси: она стояла поодаль и, с раскрытыми губами, тяжело дыша, смотрела на
Самойло так пристально, точно вдруг он чем то приковал ее глаза.
119
Но он и не глядел на нее, только стоял перед нею, освещенный фонарем, с
опущенными веками, квадратно, тяжело, мешковато; стоял, свесив руки,
неуклюжий, второсортный, так и одетый нескладно и бездарно, как полагается
аптекарю из местечка; не шевелился, не видно было дыхания, ни одна мышца не
вздрагивала. Вокруг глаз у него было. много мелких морщин, по бокам за
недостриженными усами тоже; много за тридцать лет было ему по виду.
Выражения сразу я никакого не прочел, стоит просто человек молча и не
глядит: но вдруг я сообразил, что и я уже глаз не могу оторвать от этого
замкнутого, запечатанного лица. Если одно за другим, долгой дрессировкой
воли, смести все, чем может выдать человек движения своей души;
ждать не показывая, добиваться не рассказывая, срываться не моргая,
ставить ставку молча, брать удачу молча и молча потерю, и так годами, --
тогда сложится у человека такое лицо, которому не нужно выражения, даже
глаза не нужны. Достаточно глаз того, кто смотрит на это лицо: уж он прочтет
все, что там написано и раз навсегда вытравлено и раз навсегда въелось в
самую ткань. Безучастное лицо и немое, как тяжелые дубовые ворота -- которые
недаром тяжелыми выстроил хозяин: мертвое лицо, как у дикарем отесанного
фетиша, на которого глядя начинают биться в пене виноватые женщины; такое
мертвое, что я вдруг припомнил его собственное слово: мертвая хватка.
-- Отчего ж, покатайтесь, -- сказал он просто; как будто она его
спрашивала, можно ли. И сказав это, не подымая глаз, отвернулся и пошел
сесть на свое прежнее место, с видом человека, дело которого сделано:
распоряжения, какие нужны, отданы и будут выполнены точно. Можете ехать
"покататься", пожалуйста. Можете отпустить извозчика у ворот Прокудинской
дачи и, пройдя среди мало еще населенных домиков, спуститься по заросшему
обрыву к безлюдной долине, где и днем никто не бывает, а теперь ночь.
Пожалуйста. Как вы там привыкли проводить лунные или безлунные часы, до того
Самойло нет дела; давно и раз навсегда отстранил это он от своего сознания.
Но на чем молча Самойло поставил штемпель "нет", тому не бывать: мертвой
хваткой впилось это "нет" тебе в душу и будет стоять между вами ледяною
стеной. Ступайте; играть можно, Самойло не вмешивается, но игра остается
игрой и ничем иным не будет.
Мне никогда ничего не снится, но в те годы я умел до того, как засну,
сам себе рассказывать сны. В ту ночь пришел мне в голову такой сон:
Завтра утром я встал и пошел в редакцию; у ворот Хома дал мне, конечно,
понять, что не одобряет всего происшедшего, и меня тоже не одобряет; а на
улице, близ Карантинной балки, проехали мимо меня две телеги с поклажей,
крытой рядном, и из под рядна торчали синеватые голые руки и ноги.
Вся редакция была в полном сборе, и шум еще слышен был на лестнице. Во
сне я точно распределил, что говорит о вчерашнем беспартийный редактор, что
передовик (.он был народник), что фельетонист на серьезные темы (так его
называли в отличие от меня, и был он искровец), и что репортеры пограмотнее.
Только главного лица не .было: Штроку рано телефонировали друзья из полиции,
что есть иное сенсационное происшествие, о котором писать дозволяется -- там
то и там то, бери извозца
и езжай.
Наконец вернулся Штрок и сейчас же бросился писать, а
вид у него был многозначительный. Мне он отдельно шепнул: -- Читайте
полоску за полоской, покуда я пишу, -- вам будет особенно интересно; а за то
вы мне поможете насесть на заведующего хроникой, чтобы хоть на этот раз не
покалечил мне стиля.
Я стал читать полоску за полоской с еще влажными последними строками.
Так и есть: Самоубийство на Ланжероне. Младший помощник капитана в
Добровольном флоте; семья, хорошо известная в Одессе, отец был гласным эпохи
Новосельского (Штрок писал, мне это отчетливо "снилось": "незабвенной эпохи
Новосельского, совпавшей с первой зарею всероссийской эпохи великих
реформ"). Тело, в морской торговой форме, найдено было сегодня на заре
лодочником Автономом Чубчиком в уединенной густо заросшей ложбине на полпути
между Ланжероном и дачей Прокудина. "Холодная рука несчастного еще сжимала в
последней судороге смертоносный револьвер". По мнению полицейского врача,
смерть последовала между третьим и четвертым часом ночи. Семен Позднюрка,
дворник Прокудинской дачи, показал, что покойный подъехал к дачным воротам
накануне вечером около десяти часов в обществе молодой дамы; внешность обоих
ему хорошо известна, так как погибший ("столь трагически погибший моряк")
проживал на даче прошлым летом с матерью и сестрами, и молодая дама нередко
бывала у них. Приблизительно во втором часу ночи Семена Позднюрку разбудил
звонок ("властный звонок"). Моряк ("над головой которого уже реяли крылья
самовольной и безвременной смерти") приказал дворнику отпереть калитку,
подсадил даму в ожидавшие за воротами дрожки, и она уехала, а тот, вручив
Семену рубль, остался на даче ("и скрылся в тени развесистых аллей, чтобы
никогда больше не вернуться"). "Что произошло между этими двумя участниками
таинственной драмы от десяти до часу, останется навеки покрытым мраком
неизвестности; что произошло после отъезда молодой дамы -- к сожалению,
слишком ясно".
На самом деле, конечно, это произошло не так, как у меня во "сне".
Слишком приличный был человек Алексей Дмитриевич, чтобы так уж явно для всех
связать свой уход от жизни с Марусей. Коллеге Штроку вообще не пришлось о
нем писать: телеграфное агентство, и то через четыре месяца, сообщило о
случайной гибели его где то по пути в Бомбей -- в бурю его смыло с палубы; а
Маруся уже тогда была замужем и жила в Овидиополе.
Я сказал, что история Анны Михайловны -- почти история Ниобеи; теперь
дошел до рассказа о первой стреле злого божества. В котором точно году это
произошло, не помню; знаю только, что было это зимою, в самом конце зимы,
даже в начале петербургской весны, когда вот-вот уже должен был тронуться
лед на Неве.
Сам я этого, конечно, не видел. Пишу по двум женским показаниям: первая
женщина была очевидица (отчасти: конца не видела и она, и никто его не
знает), и слышал это я от нее лично; вторая, рассказ которой, изложенный
почерком писаря, показал мне потом дежурный пристав в полицейской части,
куда я ходил за справками, вообще никакого отношения к делу не имела и иметь
не могла, и в этом и лежит вся нелепая горечь этой страшной бессмыслицы.
Во всяком случае произошло это после октябрьских дней 1905-го года,
потому что Марко несомненно в те дни принимал участие в петербургских
ликованиях по поводу манифеста о конституции. Мне рассказывали приятели:
одна из манифестаций проходила по Каменноостровскому проспекту, и вдруг
кто-то закричал:
-- Вот в этом доме живет Победоносцев!
Раздался рев враждебных выкриков, даже камень какой то полетел в окно;
толпа остановилась, повернулась к дому, образовала осадный круг, передние
грозили кулаками, задние напирали -- постепенно круг дотиснулся до самых
ступеней крыльца, и кто то, вырвавшись вперед, поднялся по ступеням и гулко
ударил дубинкой в резные двери.
В эту минуту, растолкав ряды, на крыльцо взбежал студент с глазами на
выкате, оттолкнул стучащего и стал перед дверью, лицом к манифестации,
раскинув обе руки крестом.
-- Товарищи! -- кричал он. -- Протестую! Нельзя, видите ли, добивать
побежденного врага. Ему один приговор: презрение и забвение!
Стимулы в душе толпы были тогда отменно высокие; говорят, его
послушались, хотя до того немного и потрепали, пытаясь оторвать от двери, а
он отбивался руками и ногами и кричал:
-- Не допущу!
Марко в то время, по-видимому, уже вообще забросил Ригведы и увлекся
политикой. Есть даже доказательства, что прильнул не только просто к
освободительному подъему, но даже к определенному его крылу. Это он сыграл
решающую роль на знаменитом собрании зубных врачей Васильевского острова,
где шла такая упорная борьба между формулами резолюций, предложенных, с
одной стороны, оратором-марксистом, а с другой, народником. Как и почему
очутился Марко среди лиц этой профессии -- его тайна; но мне говорили бывшие
на том митинге, что это именно он, выйдя на трибуну, обеспечил победу второй
из двух соперничавших резолюций, и так ее и проголосовали: "Мы, работники
зубоврачебного дела Васильевского острова, считая себя неразрывной частью
трудового крестьянства...".
После этого, а может быть и одновременно, участвовал он в спиритических
кружках, а также слушал доклады о тибетской медицине по учению монгольского
целителя Бадмаева; а в течение последних месяцев перед тем происшествием на
Неве страстно собирал почтовые марки. Валентиночка честно послала Анне
Михайловне толстый альбом, весь почти заклеенный, и я видел его однажды; и
помню, что великолепно отгравированная марка одной из южно-американских
республик, с неразборчивым из за густого штемпеля именем страны, но с
надписью "Correos" -- что по тамошнему значит, кажется, почта -- красовалась
в пустой клетке на странице Кореи.
Об окончательном происшествии первая свидетельница, известная
санитарному надзору столичной полиции одесская мещанка Валентина Кукуруза
дала показания и в полиции (из газетного отчета о ее сообщении я и узнал,
что случилось), и потом лично мне; передам -- больше своими словами --
рассказ ее мне, насколько удастся припомнить.
Дело было так: она в тот апрельский вечер взяла Марко с собою в гости,
к подруге, вышедшей замуж за телеграфиста. Провели вечер приятно: хозяин
играл музыку на гитаре, Марко пробовал показать столоверчение, но не вышло;
затем главным образом сражались в дурачки -- искусство, которому, по ее
просьбе, Марко в последнее время научился. Были блины. Пили? Чтобы да, так
нет: т. е. пили, но помалу. Вы, главное, за Марко спрашиваете? Он пить много
не мог: две рюмки -- уже голова болит целое завтра, поэтому она сама всегда
на людях следила, чтобы его не подбивали; а то Марко по доброте своей
считал, что нельзя отклеиваться от компании, как ни противна ему самому
водка. Словом -- выпить он выпил, но совсем чуть-чуть; конечно, у него и
чуть-чуть -- что у другого бутылка. Во всяком случае, когда они вышли, а это
было уже после часу ночи, пьян никто не был, но Марко был -- ну, такой
радый. Шел с нею под руку, вовсе не спотыкался, раз или два наступил ей на
мозоль, но это он всегда на мозоль наступал, когда гуляли под руку. Называл
ей всякие звезды, указывая пальцем, и говорил, что думает перевестись на
другой факультет и заняться астрономией. Вообще на этот раз она выражалась
правильнее, хотя не без отечественных одесских перебоев.
Телеграфист жил на Выборгской стороне, а квартирка их (они давно
оставили номера и поселились вместе) была на Знаменской. Сани брать им пока
не хотелось -- оба считали полезным проветриться в виду предыдущего, и
поэтому шли среди полного безлюдья вдоль Большой Невки, рассчитывая перейти
Неву по Александровскому мосту; и добрели до военного госпиталя, где Невка
впадает в Неву, когда вдруг издали послышался отчаянный женский крик.
Что кричала женщина, разобрать было невозможно за дальностью; но ясно
было, что зовет на помощь. Крик повторялся с короткими перерывами. Они
остановились; Марко прислушался
и сказал:
-- Валентиночка, это со льда -- с Невы. Тонет кто-то?
Валентиночка, напротив, думала, что это кричат справа, со стороны
Невки; и настолько издалека, что, вероятно, не со льда -- Невка не такая
ведь широкая -- а просто, должно быть, с того берега.
-- Кавалер какой-нибудь лупит свою мамусю, -- предположила она, --
пьяное дело, дрянь гулящая; идем.
У Валентиночки очень строгое было теперь отношение к гулящему элементу,
особенно если женского пола.
Они двинулись, но через несколько шагов Марко опять стал: крик
повторился еще отчаяннее. Теперь она уже совсем была уверена, что это со
стороны канала; а Марко еще убежденнее утверждал, что с реки. Они подошли к
речному парапету, "коло фонаря", и прямо под собой увидели начало дощатых
мостков, устраиваемых на зиму через Неву. Первые доски у берега уже были
разобраны в виду приближавшейся весны; но рабочие или не успели, или, холера
им в сердце, сбежали в шинок -- снято было только сажени две, а дальше
мостки, еще целехонькие, наперерез уходили в темноту.
-- Знаешь что, Валентиночка? -- заговорил тут Марко, -- ты подожди, а
я, видишь ли, пройду несколько шагов посмотреть.
-- Да это ж не там!
-- Право, там: вот -- слышишь?
Опять она божиться готова была, что справа, и опять он уверял, что с
Невы, и именно оттуда, куда уходят мостки.
-- Ты пьян или сбесился, лед уже трескается!
-- Да нет же, Валентиночка, я только по мосткам, и всего шагов
двадцать; ну пятьдесят, оттуда слышнее будет. Может быть, поскользнулась, а
там действительно трещина? То есть где-нибудь сбоку, у самых мостков; я с
мостков, видишь ли, ее и вытащу.
Валентиночка уже крепко держала его обеими руками за рукав; но тут
опять раздался крик, и Марко, вырвавшись, перелез через парапет, оступился,
поскользнулся, скатился на лед, встал, пробежал по пустому месту до начала
мостков и пошел по доскам.
Она хотела броситься за ним, но тут увидела, за три фонаря, фигуру
полицейского. Полагаясь больше на авторитет власти, чем на свой, она
кинулась навстречу городовому; бежала и кричала изо всей силы "караул!".
Городовой, слыша теперь женские вопли с обеих сторон, видимо, растерялся и
остановился. Покуда она добежала, покуда тащила его к мосткам, объясняя, что
с ума сошел человек, пьян с одной рюмки, дай ему в морду и забери в
участок...
Уже на досках, сколько хватало свету от того фонаря, никого не было
видно; один раз донесся из темноты голос Марко, взывающий: -- где вы? я иду
на помощь! -- а больше он и кричать не кричал; и не вернулся.
Странная вещь: ни в ту ночь, ни утром, ни еще неделю после того не
нашли там на льду около мостков ни одной трещины. Кое где проступила вода,
но мелкими лужами, вершок или полтора. Была в той стороне прорубь, но очень
далеко от мостков, вправо саженей двадцать и больше.
И еще странная вещь: потом ударила весна, лед прошел, река очистилась,
а Марко так и не прибило к берегу. Ни на островах, ни на Стрелке, ни на
каналах, ни в рукавах Невы: нигде. Нашли бродяг и женщин, нашли банкрота,
пропавшего без вести, но студента, одетого так, как описывала Валентиночка,
не нашли. Так далеко забрел Марко, что и следа не осталось.
И самая дикая вещь: а ведь та женщина, действительно, совсем не на льду
Невы кричала, а именно там, где слышала Валентиночка -- справа через Большую
Невку, недалеко от Самсоньевского моста. Писарь в полицейской части точно
записал: звали ее Марья Петрова, крестьянка Псковской губернии, 28-ми лет, и
на набережной бил ее сожитель, по имени Иван Сидоров или Сидор Иванов;
смертным боем бил, в участок привели всю в крови; проходил мимо господин и
вступился, и за это, чтоб не смел вмешиваться, Марья вместе с Иваном
набросились на него с кулаками и непотребной руганью, повалили в снег,
разбили очки, изорвали шубу -- поэтому только, собственно, и попали в
полицию; и по сей день еще не знает Марья Петрова и никогда про то не
узнает, как бежал "к ней" по мосткам бестолковый божий дурак, бежал не туда,
и, прислушиваясь (он ведь сам о себе как то сказал: я -- из тех, которые
прислушиваются) -- взывал в пустую темноту: иду на помощь!
XXI. ШИРОКИЕ ЕВРЕЙСКИЕ НАТУРЫ
Тускло и неуютно было теперь в доме у Анны Михайловны. Игнац
Альбертович начал заметно горбиться; говорил, что так сказано где то в
мидраше -- или, может быть, в изречениях старых волынских мудрецов: у
человека две матери; одна -- его родная мать, а вторая -- земля. Покуда мал,
он слушает голос первой, но она выше его ростом, и оттого он все подымает
голову; когда подходит старость, начинает с ним беседовать вторая, и к ее
шопоту надо прислушиваться наклоняясь. Анна Михайловна за то не пыталась
объяснить свою все густевшую проседь. Сумно было в доме, гости приходили
только пожилые; даже Нюра и Нюта являлись реже редкого -- Сережа без Маруси
перестал собирать у себя друзей и после ужина часам к десяти уходил на
свободу, а степенный Торик сидел у себя за книгой.
Начали портиться у Игнаца Альбертовича и дела. Слишком ли часто
закрывал падишах Дарданеллы, или Херсон, углубивший недавно днепровские
"гирла", и Николаев у широкого устья начали обгонять сухую Одессу, или
другая причина -- только заметно стала пустеть Карантинная гавань, поредели
и дубки на Платоновском молу и на Андросовском, и тысячный гомон маклеров и
на бирже, и на тротуарах перед Робина и Фанкони (эту незаконную, но главную
биржу все называли "Грецк"), если не утих, то зазвучал тревожно. За столом у
Игнаца Альбертовича по вечерам все ворчливее ссорились Абрам Моисеевич с
Борисом Маврикиевичем; старшего брата особенно раздражало новое слово
"конъюнктура", которое "Бейреш" вычитал в передовице моей газеты и
произносил своеобразно, вроде "кунтатурия"; сам же он, старший брат, во всей
беде винил "банки".
-- Эх, молодой человек! -- говорил он мне, -- посмотрели бы вы, что
творилось на Днепру лет тридцать тому назад, когда только и было два царя от
порогов до нашего элеватора: Вебстер-Коваленко -- один, а другой, еще важнее
-- "Русское Общество". Едет себе вверх на колесном пароходике от Херсона
такой еврей Ионя, главный скупщик "Ропита"; борода черная, очки золотые,
живот как полагается.
Едет, как цадик у хасидов, пятьдесят человек свиты -- бухгалтеры,
лапетуты, пробирщики и так себе дармоеды. Всю дорогу дают чай, а то можно и
по стаканчику водки с пряником; и до трех часов ночи играют в шестьдесят
шесть -- что вы думаете, по пятьсот карбованцев проигрывали; я сам знал
идиотов, что даже платить платили! А мимо бегут пристани -- Большая
Лепетиха, Малая, Берислав, Каховка, Никополь, аж до Александровска. На
каждой пристани еще за три часа до приезда Иони сам губернатор не
протолкается: агенты, маклера, перекупщики, биндюжники, чумаки,
вся площадь завалена мешками, позади волы и возы. Вы что думаете, Ионя
ночь не спал, так он усталый? Как увидит пристань, он кричит матросу: Юрка,
сюды -- качай! Сам подсунет голову под "крант", Юрка давай накачивать воду,
пол Днепра выльет ему на лысину, и опять Ионя хоть на свадьбу готов. Стоит
на палубе и еще издали кричит: -- Наше вам-с, Ставро Лефтерьевич, как
живете? вижу, пополнели, летом вместе в Мариенбад поедем. -- Гей,
Куролапченко, -- что мне в Каховке сказали, опять уж у тебя дочка родилась?
Седьмая? Окрести ее Софья -- пора сделать "соф"! -- Шулем-алейхем, мусью
Гробокопатель; швыдко, ты Гамалию-ротозей, видчиняй гамазей! (Это магазин
по-хохлацки).
-- Для каждого доброе слово, а те стоят и смеются, руки целовать
готовы... Был Днепро, а теперь извините. -- Банки!
-- При чем банки, однако?
-- Стали позычать деньги всякой мелюзге; против "Ропита" и Вебстера с
Коваленкой развелась целая хевра куцого сметья -- "господин экспортер", а на
нем штаны с бахромою, и то дядькины. Самим нечего есть и большим тоже не
стало ни воды, ни воздуха. Умирать надо, Игнац Альбертович; только ты,
пожалуйста, Бейреш, помирай первый.
Неуютно стало и вообще в Одессе. Я не узнавал нашего города, такого еще
недавно легкого и беззлобного. Ненависть его наводнила, которой никогда,
говорят, не знала до того метрополия мягкого нашего юга, созданная ладной и
влюбленной хлопотнею, в течение века, четырех мировых рас. Вечно они
ссорились и в голос ругали друг друга то жульем, то бестолочью, случалось и
подраться; но за мою память не было настоящей волчьей вражды. Теперь это все
переменилось. Исчез первый знак благоволения в человецех -- исчезла южная
привычка считать улицу домом. Теперь мы по улице ходили с опаской, ночью
торопились и жались поближе к тени...
Дело, впрочем, было теперь не в одной племенной распре. Когда все мы,
два года назад, читали о первых героических налетах из подполья на конвои
казенного золота, никто не подозревал, до чего постепенно демократизируется
эта система финансирования безденежных начинаний. Теперь она в Одессе кратко
называлась "экс" и применялась уже просто и открыто для пополнения личной
кассы налетчиков. Первое время, подкидывая письмо с угрозами или подставляя
револьвер, они еще ссылались на какую то непоименованную "партию"; но вскоре
и это бросили и стали просто грабить без вуали. В смысле размаха аппетитов
отличались спартанской скромностью: хоть и были еще редкие попытки сорвать
толстый куш с отдельного пугливого богача, но обычным типом "экса" был визит
вдвоем в бакалейную лавочку и конфискация утренней выручки в размере двух
рублей с копейками. Всего любопытнее было то, что свирепствовал "экс" у нас
в городе только среди евреев: евреи были все объекты его, жирные и тощие, и,
как божились потерпевшие, все без исключения субъекты. "В два кнута хлещут
еврейскую массу", меланхолически писал мой коллега по газете, фельетонист на
серьезные темы: ночью, дубинками, чужая сволочь, днем своя.
Редакционный служитель наш Абрам доложил, что спрашивает меня студент,
а назвался он Виктор Игнатьевич.
Торик вообще мало к кому ходил, а тут у меня был в первый раз. Я понял,
что дело важное, и велел Абраму никого не пускать в приемную. Дело оказалось
и в самом деле нешуточное, но по началу скорее даже смешное. Торик изложил
его систематически, в порядке хронологии событий и открытий, одно за другим,
не забегая вперед, а подталкивать его не полагалось: очень солидный,
благоустроенный юноша был Торик.
У Абрама Моисеевича состоялся вчера "экс". Явились к нему на дом два
молодых человека, один вида простонародного, другой "образованный",
предъявили бумажку со штемпелем и два "пистолета с вот такими барабанами" и
потребовали пять тысяч, а не то -- смерть. Он посмотрел на них, подумал и
спросил:
-- Откуда вы узнали, что я в городе? Я вчера только вернулся из
Мариенбада.
Юноши гордо объяснили, что комитету все известно: такова система
слежки.
Он еще подумал, вдруг рассмеялся и сказал им:
-- Слушайте, молодые люди: хотите получить не пять тысяч, а пятнадцать?
Пойдите к моему брату Бейрешу, покажите ему эти ваши пулеметы и возьмите с
него десять. После того приходите ко мне: если покажете мне его десять
тысяч, я вам тут же вручаю мои пять.
Они вытаращили глаза; конечно, заподозрили, что пошлет за полицией. За
совет спасибо, к "Бейрешу" пойдут, но деньги на бочку моментально.
-- Э, -- ответил он, -- когда с вами говорят, как с людьми, не будьте
пархами. Мое слово -- слово. Каждый банкир в Одессе на мое слово даст
пятьдесят тысяч без расписки, а тут два смаркача. Убирайтесь вон или
делайте, как я велю. Ваши пистолеты? чихать я на вас хотел; бомбах я не
боюсь (наиболее характерные места его рассказа Торик передавал и
грамматически дословно). А вот если сделаете мне удовольствие насчет
Бейреша, так это "да" стоит пяти тысяч: пожалуйста.
Они пошептались в углу и решили, что надо запросить "комитет" по
телефону. Простонародный тип увел его в другую комнату и запер за собою
толстую дверь, а образованный остался телефонировать. Через десять минут он
их вызвал обратно и сообщил решение комитета: согласны, только вот он должен
с вами остаться в комнате, пока я вернусь от вашего брата Бейреша.
-- Можно, -- сказал Абрам Моисеевич. -- Он сигары курит? Я привез
отличные -- "что-нибудь".
Так и просидел простонародный с Абрамом Моисеевичем два часа, курил
сигары, и понемногу дружески разговорились. Рассказал, что он совсем не
жулик, а человек порядочный и хороший еврей, участвовал в самообороне
1905-го года, даже целую дружину привел с собою, и здорово они тогда в
октябре после манифеста поработали. (В этой части рассказа я перестал
улыбаться: мне что то начало мерещиться недоброе). -- Словом, через два часа
вернулся образованный и показал десять тысяч;
Абрам Моисеевич сейчас же открыл несгораемый шкаф, спокойно вынул
оттуда кучу бумажек, при них отсчитал пять тысяч, потом подумал и прибавил
шестую; при них спрятал остальное -- им даже в голову не пришло помешать --
и закрыл сейф.
-- Идите с Богом, -- отпустил он их, -- кончите Сибирью, но меня вы
порадовали.
Сейчас же после того Абрам Моисеевич вызвал к себе Торика и представил
ему следующие соображения. Во-первых, очень странно, что они пришли к нему
сейчас же на завтра после его приезда из Мариенбада: кто мог им это сказать?
Во-вторых, они даже не спросили у него адреса "Бейреша": а тот тоже всего
неделю назад переехал на новую квартиру. В третьих, простонародный его
собеседник, хвастаясь подвигами и передавая, как его хвалили организаторы
самообороны, обмолвился, что зовут его Мотя -- а это имя Абрам Моисеевич как
то где то слышал. Наконец, когда они шептались в углу, ему показалось, что
расслышал он еще одно имя.
-- Сережа?!
-- Не совсем так, но еще хуже: "Сирожка". Улики слабые, как видите; но
Абрам Моисеевич верит в свою интуицию. "Я", говорит он, "сам старый
конокрад, и уж по тому одному, как уведена кобыла, знаю нюхом, кто увел". Он
голову дает на отсечение, что звонил образованный не в "комитет", а по
телефону 9-62.
Торик и сам произвел дома небольшое дознание. Сережи не застал, но
осторожно расспросил горничную. Она сказала, что около одиннадцати утра
паныча Сергеи Игнатьича вызывали по телефону, и он ее тогда выслал из
отцовского кабинета, где она вытирала пыль, и запер двери.
Рассказал мне Торик эту повесть так, что я невольно любовался, хоть и
не до того было. Ровно столько огорчения, сколько нужно было, и ровно
столько юмора, сколько можно при данной степени огорчения. Ни одного
осудительного слова против брата: словно шла речь о больном человеке,
которого лечить надо, а не судить. А ко мне пришел затем, что для Сережи я,
когда нет Маруси, единственный, который...
В тот вечер я пошел говорить с Сережей. Торик предупредил меня, что
родители уйдут в оперу, и сам он тоже уйдет, чтобы никто не мешал, а Сережа
раньше десяти не уходит. В самом деле, еще из передней я услышал Сережин
голос: он что то наигрывал на рояле и подпевал.
-- Чудесную песенку привез знакомый из Парижа, -- сказал он мне, сияя:
-- Janneton prend sa faucille pour aller couper les joncs. Говорят,
старинная. Вот уже час корплю, хочу перевести. Нравится вам начало? --
Наступил июль горячий,
По деревьям бродит сок.
Прогуляться в лес на даче
Вышла Таня на часок.
-- Я к вам не за тем, Сережа: у меня серьезное дело, и неприятное.
-- Погодите, сейчас; ужасно трудно подобрать все рифмы не просто на
"-ок", но на "-сок", avec la consorine d'appui. Слушайте:
Вдруг четверку повстречала:
Каждый строен и вы-сок.
Первый скромно, для начала,
Ущипнул ее в... висок.
В висок ущипнуть нельзя, но это -- для ваших целомудренных ушей: у меня
на самом деле другая рифма, более щипабельная. Дальше еще не готово. Слушаю;
только не ругайтесь, если вдруг сорвусь на минутку напеть следующий куплет.
Что нового на Риальто?
Я притворил дверь гостиной и сказал очень просто:
-- Сегодня Мотя Банабак еще с одним товарищем произвели "экс" у Абрама
Моисеевича; и сделали это по вашему поручению. Вы знаете, чем это пахнет?
Он стоял предо мною, ловкий, стройный, изящно одетый во что то
специально домашнее, одна рука в кармане, в другой папироса. Ни одна бровь
не дрогнула, но ход его мыслей отразился на лице явственно. Сначала он
удивился, откуда я знаю, хотел было отрицать; сейчас же сообразил, что не
стоит, улыбнулся чистосердечно и спросил тоном любознательной деловитости:
-- Чем пахнет?
-- Чем угодно, от арестантских рот до расстрела.
-- Кабальеро, я четыре года проторчал на юридическом факультете.
Почтенный хлебник Авраамий, сын Моисеев, будет молчать, как скумбрия, немая
от рождения, пойманная, нафаршированная, зажаренная, съеденная и
переваренная.
-- Не ручайтесь!
-- Ручаюсь. Что визит к нему произошел по моей инициативе, он доказать
не может; а зато есть два свидетеля, что он подговорил их учинить налет на
своего же брата Бейреша, сына Маврикиева, и еще заплатил им за это шесть
тысяч рублей. Знаете, чем это пахнет?
Это была здоровая логика, бесспорно. Первый натиск мой, со стороны
самосохранения, он отразил. Я на минуту сбился с нити; стоял и почему то
думал о том, что сегодня он все время говорит по-русски, без обычных своих
гаванных словечек, и это с самого моего прихода: сразу, что ли, почуял, что
я пришел не по шуточному делу?
-- Дело не в этом случае, Сережа, -- сказал я, собравшись с мыслями. --
Я теперь не сомневаюсь, что вы связались с налетчиками вообще. Никакого
оправдания у вас нет, вы это не для "партии" делаете -- да еще через Мотю.
Это просто гнусная низость.
Он прищурил глаза и проговорил раздумчиво:
-- Я бы мог, собственно, указать вам на дверь и даже помочь вам в деле
утилизации оного отверстия.
Я ответил опять очень просто:
-- Не будьте идиотом, Сережа.
Он пожал плечами; несколько минут ничего не говорил, только постукивал
носком; вдруг потер лоб, просиял, счастливо кивнул мне головою, сел к роялю
и (сказав мне: -- Минутку!) запел, бренча аккомпанимент:
-- Но второй был смел, и смело
Бросил Таню на пе-сок.
Третий ловко и умело
Развязал ей поя-сок,
А четвертый...
Вот еще только четвертый, собака, не дается. "Cе que fit, le
quatriéme...".
Я бесновался внутри; право, не за него тревожился, пусть идет ко всем,
если так ему нравится: Анна Михайловна не выходила у меня весь день из
головы, моя старшая и первая любимица в этом доме. Это ради нее, чтобы не
стыдно было смотреть ей в глаза, я тогда в Лукании сказал Марусе "чур" и не
дотронулся: только ради нее, пора выдать правду. Женщина с изумительным
гением понимания, безропотно несущая свое бессилие -- бессилие всех матерей
и отцов в том поколении перелома и распада; женщина, вздернутая Богом на
дыбу, чем дальше, тем выше; и вот ей этот обаятельный мерзавец готовит еще
один поворот колеса, натягивающего канаты. Упортовые словечки знал и я,
самые последние, самые хамские: страшно хотелось бросить их все ему в лицо,
и еще плюнуть в придачу, по настоящему плюнуть мокро, и уйти. Но хватило,
спасибо, рассудка поступить иначе. Я собрал у себя в глотке самые ласковые,
самые музыкальные и задушевные ноты голоса и сказал ему:
-- Сережа, за нами столько лет дружбы. Если вы не слышите, что за крик
боли стоит у меня теперь в душе, вы глухой. Ради Бога, Сережа!
Он медленно повернул ко мне крутящийся табурет у рояля, оперся локтем о
зазвеневшие клавиши и посмотрел мне в глаза по своему, открытым и честным
взглядом удалой и безграничной своей натуры.
-- Во второй раз вы меня спасти хотите, -- сказал он тоже с глубокой,
грустной дружбой. -- А я во второй раз спрошу вас, и, поверьте, не для
зубоскальства, а совсем искренно: в чем дело? Почему нельзя? Это ведь не то,
что взять у нищего. Может быть, я нравственно глух, но ведь это от природы,
это органическое мое увечье, а не вина.
-- Но зачем, зачем?!
Он опустил голову и задумался на минуту. Потом он заговорил, рассеянно
слегка постукивая пальцами по клавишам; и всю эту речь его я помню сквозь
тихую втору отрывистого рокота рояля, как ту исповедь Маруси помню сквозь
лунный свет и зеленый шелест. Наигрывал ли он бессознательно какую то
знаемую мелодию, или просто сами невольно создавали ее одаренные пальцы, но
даже меня, туго откликающегося на музыку, странно захватило и подчинило ее
подавленное журчание, и с ним уже без отпора вливались в мое сознание его
слова.
-- Все равно, милый друг мой, -- говорил он, -- я ведь пропаду. Я не
прилажен для жизни. Это дико звучит, когда речь идет о человеке, сплошь
усеянном, как я, полуталантами: и на рояле, и карандашом, и стихотвор, и
острослов, и что хотите. Может быть, в этом и болезнь, когда все человеку
дается, к чему ни приложит руку: как тот царь, у которого все в руках
превращалось в золото, и он умер с голоду.
-- Неправда, из вас бы вышел отличный адвокат...
-- Да я у кого то и состою помощником -- даже где то записал, у кого
именно. Ничего не выйдет: не могу я работать. Даже легкой работы не выношу:
не в усилии дело -- для игры я целый день вам пудовые мешки буду таскать; но
если это не игра, если "нужно" -- не могу. -- Вы прочли Вейнингера?
-- "М" и "Ж"? при чем это?
-- "Ж". Я знаю, это еще более дико сказать о малом с такими широкими
плечами; и гимнаст я хороший, и, честное слово, совсем нормален в том -- вы
знаете -- специфическом смысле; но ведь я, собственно, женщина.
Барышня-бабочка, рожденная только для холи и забавы и баловства. Родись я
девушкой, никто бы не попрекнул меня за то, что я не создан для заработка: у
них это в порядке вещей, если внешность подходящая. Кто-нибудь тогда бы
кормил и наряжал меня для украшения своего быта и дома, и еще благодарил бы
каждый день за то, что я позволяю. Меня бы тогда "содержали"... Сознаться
вам? Это слово "на содержании", которое для каждого настоящего мужчины
звучит так погано, меня оно не коробит. Уже несколько раз я был на самом
пороге и этого переживания; почему то не поддался, сам не знаю почему; но и
это еще возможно.
Я почти застонал: гнев мой давно прошел, осталась только тупая, тяжелая
боль. Я сказал:
-- Вы говорите так, как будто теперь вы нищий.
-- Я и есть нищий. Куда плывут у меня деньги, сам не знаю. Выпил кофе
за четвертак, ничего не купил, а ушло пять рублей. Тоже черта той дамочки:
легче далась бы черная магия, чем арифметика собственного кошелька. Это и
значит "нищий": тот, у которого над душой каждую секунду висит гнусная,
подлая забота -- где достать? Для дамочки это просто: потерлась плечиком о
плечо отца, или мужа, или друга и попросила умильно: дай! Пусть иногда
откажет -- но хоть не стыдно. А на мне галстук и брюки, я числюсь мужчиной.
Папа c'est un chic type, сам приносит конверт 1-го и 15-го, а мне это -- как
хлыстом по лицу. Никудышный я; пропаду все равно, не стоит хлопотать.
Мы оба молчали; вдруг он заговорил бодрее, и аккомпанимент на рояле
зазвучал громче:
-- Между прочим: этот подвиг с Авраамием в моей биографии первый. Вдруг
осенило. И денег его я пока не тронул; собственно потому, что не привык еще
как-то принимать ассигнации из рук моего друга Моти Банабака -- привык
наоборот. Предрассудок...
Он повернулся к роялю и стал наигрывать внимательнее, что то бормоча,
потер лоб одной рукою, нахмурил брови, кинул мне рассеянно: -- Простите...
-- и опять запел, сначала вполголоса, но со второй строчки уверенно:
-- А четвертый... Но из драмы
Надо вычеркнуть кусок,
Чтоб, узнав, и наши дамы
Не сбежали в тот лесок.
И он совершенно преобразился. Отпихнулся ногой, три раза перекрутился
вместе с табуретом, удержался против меня: его лицо сияло подлинной
беспримесной радостью, он с силой провел ногтем большого пальца по всей
клавиатуре с диэзами и бемолями и закричал:
-- Готово! Нравится?.. И вы не тужите: во второй раз обещаю вам честно
-- ни-ни. Этого -- ни-ни; не хочу вас отпустить опечаленного. А пропасть --
пропаду.
Еще только раз увидел я Марусю (хотя и после того однажды поехал к ней
в гости и опоздал). У меня была в Аккермане лекция, и оттуда Самойло с
Марусей увезли меня через лиман к себе в Овидиополь.
Чуть было не написалось: "я ее не узнал". Это была бы неправда: Маруся
ни на пушинку не изменилась. "Не узнал" я не ту Марусю, которую прежде знал,
а ту новую, которую подсознательно рассчитывал найти в этой новой
обстановке. До встречи я, невидимому, думал так: ей теперь чего то не
достает, к чему она привыкла, -- следовательно, я в ней замечу какой то
голод. Оказалось -- ничего не оказалось.
Ни на волосок она не изменилась. Разве что стала очень деловитой
домоправительницей, но это не было неожиданностью, все мы всегда знали, что
Маруся, за что бы ни взялась, будет мастерицей. Несколько лет тому назад она
раз пришла ко мне, всплеснула руками при виде беспорядка (а по моему,
никакого не было беспорядка), дала мне пощечину, повязала волосы платочком,
повозилась два часа, все подмела, перетерла, передвинула, повыкидала все
женские фотографии ("и набрал же мальчик галерею крокодилов!"), кроме двух
подлинно хорошеньких и своей собственной ("по моему, я самая лучшая"); и
получился такой рай, что мне жаль было после того мыть руки в умывальнике --
она так уютно прикрыла кувшин полотенцем. Не чудо, что у нее дома оказалось
еще лучше; и что горничная понимала ее с полуслова, и что обед был вкусный и
на столе цветы, и что ребенок был счастливый, розовый и для своих
восемнадцати месяцев благовоспитанный. Даже то не чудо, что Самойло стал
человечнее, уж не так неуклюж и угловат: я этому совсем не удивился, значит
и это подсознательно предвидел, издавна зная, как Маруся покоряет людей.
Неожиданным оказалось вот что: она говорила, смеялась и светилась
точь-в-точь, как в самые первые годы нашего знакомства, до той тревоги из-за
Руницкого. Перед вечером пришли к ним гости, какой то грек-сосед с женою,
которую звали Каллиопа Несторовна, а муж был, по-видимому, владелец баштанов
в окрестности; и немец-аптекарь из Гросс-Либенталя, приехавший на
собственной бричке, тоже привез жену и двух красавиц дочек, степенных и
глупых. Говорили об огурцах и арбузах, о скарлатине и земском враче: т.е., в
сущности, о такой же обыденщине, о какой во дни оны шла, бывало, болтовня в
гостиной у Анны Михайловны, -- только все же там, во дни оны, темы
обыденщины были рангом выше, там чувствовалась близость большого театра,
четверги в литературке, университет. Но Маруся и тут была, как рыба в воде:
ни одного ложного тона, всем было по себе, вся комната опять звенела ее
колокольчиками: точно тут родилась и выросла Маруся и ничего ей другого не
нужно.
Я присмотрелся, как она себя держит с мужем и ребенком:
нечего было присматриваться, ничего нового. С Самойло она говорила, как
когда то со мною или с теми белоподкладочниками: когда о пустяках --
задорно, а когда о деле -- деловито. С ребенком возилась ровно столько,
сколько нужно было, раз нету няньки, но как то не было впечатления, чтобы
"нянчилась"; прикрикивала, шутила, когда ушибся -- приласкала, но ничуть не
нежничала; а когда заснул, искренно сказала: "Уф! здорово вы мне надоели,
Prince Charmant; сто рублей дам, если не проснетесь до половины пятого";
потянулась, схватила меня за руку и увела в сад, прибавив:
-- Ступай в аптеку, Самойло, нам не до тебя: мы продолжим наш роман.
Я провел у них двое суток и все время, как собачка, ходил по дому и
садику за Марусей. С утра она надевала тоненькую цветную распашонку: она ее
называла "балахон" и уверяла, что в этом наряде удобнее варить что то такое
для ребенка, хотя мне все время казалось, что вот-вот загорятся о пламя
керосинки широкие висячие рукава. Ибо и на кухню я ходил за нею:
"кум-пожарный при кухарке", смеялась она. Накормив сына, она повязала рыжие
волосы платочком, надела передник и прибрала с горничной квартиру, а я
помогал -- лично стер пыль с глянцевитой рамы зеркала; но с шероховатых
поверхностей отказался, и Марусе не дал, потому что все равно не видно. И
она, хлопоча, все время щебетала, называла меня бездарностью и смеялась,
по-прежнему немного хрипло.
-- Не разберу, Маруся: изменились вы или нет?
Она подумала и решила, что только в одном отношении да. Она мне
напомнила: давно, когда раз я "прочел ей нотацию" за слишком вольный язык,
она мне объяснила свою классификацию неприличностей. Есть неприличности,
которых детям знать нельзя; и есть та категория, которую детям знать не
только разрешается, но даже неизбежно. В обществе, где есть и мужчины, и
женщины, "детские" неприличности строго воспрещены, это дурной тон; но те,
что не для детей, -- пожалуйста.
-- А теперь, -- призналась она, -- я могу нечаянно порадовать вас и
анекдотом из категории младенческих вольностей;
хотя постараюсь воздержаться. Трудно, понимаете, когда весь день с
полуторагодовалым малышом.
Тут она вдруг меня притянула к себе и шепнула на ухо:
-- Через пять месяцев будет второй.
-- Вот бы не догадался!
Она повернулась профилем и весело спросила, следя за моим выражением:
-- Не прибыло?
Я честно сказал, что нет, но она заметила что то у меня в глазах:
-- Вы чему смеетесь?
Я, расхохотавшись, сознался:
-- Вспомнил. Когда то -- после другой моей "нотации", на другую тему
о... вольностях, -- вы тоже повернулись ко мне профилем, но опросили
наоборот: что ж, убыло?
Она меня за эту справку расцеловала и затихла на минуту с головой у
меня на плече.
-- А встречаете вы моих "пассажиров"? -- спросила она потом.
В двух шагах была Одесса, но она редко туда ездила, гораздо чаще Анна
Михайловна к ней; и, когда гостила у матери, никого из прежних друзей не
вызывала. Мне пришлось ей рассказать, кто остался, кто уехал, у кого какая
служба или практика; и что все, когда со мной встречаются, до сих пор
говорят не о былой юности, а про Марусю. Она слушала внимательно и
растроганно, о каждом расспрашивала, вспоминала словечки, выходки,
странности каждого, и о каждом наизусть Сережин "портрет":
Вошел, как бог, надушен бергамотом
А в комнате запахло идиотом...
-- Милые они все, -- сказала она искренно; -- чудно мне с ними жилось,
так бы каждого сейчас и расцеловала, -- как вас;
не ревнуйте.
-- А вы, Маруся, никогда не тоскуете? -- спросил я, осмелев.
-- Не, -- ответила она просто, качая головою. -- Ведь это было как
купанье: плескаться в море -- прелесть, но поплескался и баста; а выйдя из
воды и надевши туфли и шляпку и все, кто разве тоскует по воде?
Показала она мне комнатку вроде своего будуара ("моя личная норка");
там на столике я увидел карточку Руницкого, но о нем в этот раз она не
заговорила, и я тоже.
На второй день, вскоре после завтрака, Самойло уехал в Одессу что то
закупать и сказал, что вернется поздно после полуночи: в аптеке у него был
ученик-помощник. Хоть он и стал много милее прежнего, я без него себя
чувствовал куда свободнее; но Маруся, по моему, ничуть, -- только, понятно,
у нее больше было времени говорить со мною наедине; а говорила так же точно,
как и накануне.
В десять я пошел спать -- на рассвете надо было ехать; и скоро заснул.
Разбудил меня плач ребенка; через минуту из той комнаты послышались шаги
босиком и уговаривающий голос Маруси. Хотя толковала она с ним вполголоса,
чтобы я не проснулся, но все слова доносились ясно, -- только половины их я
все равно не понял: это все было на языке того заколдованного края, куда от
нас уносят боги девушек, преображенных первым материнством.
А-ба-ле-ба-ле-ба-ле... А-гудь-гудь-гудь-гудь... Иногда, впрочем, слова были
русские, но такие, которых я никогда не слышал: "шелковиночка серебристая",
"светлячок", "лепесточек"... Потом запела потихоньку:
Ули-люли-люли,
Чужим деткам дули,
Зато нашим калачи,
Чтоб не хныкали в ночи.
Он, наконец, угомонился; босые ноги зашуршали к моей двери, и Маруся
шепнула:
-- Спите?
Я отозвался; она вошла, в косах и в том балахоне поверх сорочки,
сказала "подвиньтесь", села с ногами на кровать и заговорила:
-- Полагалось бы выразить сожаление, что мы вас разбудили, но я страшно
рада: покуда я там укачивала это добро, все молилась Господу, чтобы вы
проснулись. Как то за этот час больше "за вами" соскучилась, чем от
сотворения мира.
Не допопрощалась, видно. Бог знает, когда я снова тебя увижу, --
молодость моя...
Было не совсем темно, с улицы косо падал свет керосинового фонаря. Она
пристально вглядывалась в меня; протянула руки, погладила мои чуб, потом
взяла за уши; я вспомнил, где-то читал, что в древнем Риме женщины, целуя,
тоже брали за оба уха -- Маруся немножко наклонилась, как будто хотела
поцеловать и уже косы упали мне на лоб; но передумала, отодвинулась, велела:
"дайте вторую подушку", положила ее себе за спину и оперлась.
Я сказал ей, не для того, чтобы вызвать опровержение, а совсем честно:
-- На что вам молодость, Маруся? Ведь вам хорошо в этой новой
молодости, во сто раз лучше: я не знаю, как это вышло, прежде бы не поверил,
но ведь вы словно для этой жизни и родились, и все годы к ней себя готовили,
только по своему готовили; и мама это знала -- она мне давно предсказывала,
только не называя Самойло, что так будет.
Маруся помолчала, потом ответила:
-- Мама великая умница. Никогда мы с ней об этом не говорили -- а она
еще раньше знала, чем я.
-- А вы давно знали?
-- Ей-богу не помню. Всегда. Папа его привез, я еще была гимназисткой и
готовила его к экзамену; и мне страшно импонировало, что он так умеет
сосредоточиваться на главном и отметать пустяки, ничем его не обманешь и
ничем не сманишь. Металлическая душа; или дубок, что ли. Тогда еще, верно, и
порешила; а момента не помню.
Она вдруг засмеялась:
-- Знаете? Самойло по своему такой же тонкий умница, как мама (это у
них в крови -- он ведь ей родня, а не папе). Раз он мне сказал: "если бы ты
со мною попыталась флиртовать, я бы ушел навсегда. Что ты там набуянила с
другими, мне все равно, а со мною нельзя. Не важно, если человек свистит на
улице -- главное, чтобы он понимал, что в синагоге свистеть не полагается".
Потом она поправилась, не глядя:
-- Он сказал так: "мне все равно, что с другими -- кроме Руницкого".
У нее слегка дрогнул голос; я инстинктивно выпростал из под головы руки
и протянул их ей навстречу -- она переплела свои пальцы с моими и долго не
выпускала. Мы молчали -- я где то прочел, или сам придумал и где то написал
такое слово: молчать в унисон: это когда мысли сами между собою
перестукиваются. Поэтому вышло совсем не "вдруг", а вышло естественно, по
ходу и логике бессловного разговора и с ее бессловного позволения, когда я
спросил:
-- Что тогда было в долине Лукания?
Маруся легла ко мне, обвила мои руки тесно вокруг себя, свои вплела мне
в волосы, прижала губы к уху и зашептала:
-- Страшная вещь была. Я туда ехала, как одержимая, с обрыва бежала,
как одержимая: знала, что это конец, через минуту я буду женой Алеши, я так
хочу и так надо, пусть мне будет больно и страшно и все развалится навсегда.
Так и сказала Алеше, внизу, на том самом месте, где ты меня судил и простил;
даже не сказала -- велела. И вдруг -- даже объяснить не умею -- как будто
лопнула во мне пружина, и я не я, и все по другому, чужой человек с чужим
человеком. Он еще только руки протянул ко мне -- и разом отстранился, и,
сразу все понял. Не сказал больше ни слова, отвел меня наверх, отыскал
извозчика, отвез домой; помню, зубы у меня стучали. У подъезда помог мне
вынуть ключ из сумки, сам отворил дверь и снял шляпу. Я хотела сказать
"прости ты меня Христа ради" -- ведь я за полчаса до того уже была в душе
крещеная и венчанная в церкви. Ничего не сказала, и он ничего не сказал.
Маруся толчком откинулась от меня, опять села, оперлась о ту вторую
подушку, закинула голову; потом подняла руки и долго смотрела на них в косом
свете с улицы.
-- Собственно говоря, -- сказала она громко, равнодушно, даже
усмехнувшись, -- ведь у меня, собственно говоря, кровь на руках.
-- Не болтайте глупостей, -- отозвался я сердито.
-- О, меня это не мучит. -- Она говорила, в самом деле, очень спокойно.
-- Может быть, это мы в такое время живем: все пистолеты, виселицы, погромы.
Меня кровь не пугает. Я только за маму тревожусь.
Я не понял: -- За маму? В чем дело?
Она объяснила медленно, с долгими запинками, подбирая слова; говорила
опять совсем спокойно, по-видимому, ничуть не испытывая той жути, которой во
мне отзывались ее странные мысли. Странные? Не уверен, чтобы совсем
неожиданные: в этом рассказе уже несколько раз сорвалось у меня имя
"Ниобея", и теперь я не помню, родилось ли оно в моем сознании только после
этой беседы и после всего -- или тоже, как Марусино предчувствие, задолго
раньше, "так", "почему то".
-- Так, почему то, -- говорила Маруся. -- Почему то мне мерещится, что
мамины дети все плохо кончат; то есть все кроме Торика -- Торик не наш. Вот
уже Марко пропал, как то совсем по дикому, как никто никогда не пропадал.
Лика -- Лика палач до корня волос, до обкусанного края ногтей; кого задушит,
ее ли придушат, не знаю, но я как то уже давно ее списала со счета. А Сережа
-- Сережа меня затащил однажды в кавказский кабачок, там один черкес плясал
с пятью кинжалами во рту: это ведь и есть Сережа -- ох, напорется. И хуже
всего одно: мама это знает, мама всегда про это думает.
Я молчал, настолько подавленный, что даже не попытался вставить
подходящее возмущенное замечание -- "какая чепуха!" или в этом роде.
-- Кроме Торика, -- повторила она. -- И еще я пропустила Марусю. Я
зверек без когтей, никого не придушу, и кинжалов у нас в доме нету; но
убейте меня -- как то не могу вообразить себя старушкой, или просто пожилой
дамой. Это свои вы мне когда то читали стихи: "Цветок сирени, ты свой убор
покинула весенний, когда весна прошла"?
Я, наконец, взял себя в руки:
-- Весьма польщен: мои; но вы, мой друг, оказывается -- тайная
истеричка. Гидропатия вам нужна: на такую блажь один ответ -- холодная вода;
или оттаскать за косы.
Но Маруся уже смеялась, тормоша мои волосы:
-- И то правда; вероятно, сама в это не верю, иначе не жилось бы мне
так безоблачно, как живется. Утром забуду все, что теперь вам нагадала.
Я сказал: -- Хотите, я вам скажу, как я вас "разгадал", здесь, за эти
два дня?
-- Хочу.
-- Вы мне тогда в Лукании сказали: будь у меня талант певицы, или
другой талант, я бы спряталась от всего мира, одна одинешенька или с моим
рабовладельцем. А я спрашиваю: может быть, есть женщины, для которых высшая
песня, песнь песней -- это ребенок и муж, и вообще вся эта ванна спокойной
нежности, в которой вы живете?
-- "Весьма польщен", -- она передразнила мой давнишний ответ, но глаза
ее смотрели серьезно.
-- Понимаете, -- настаивал я, -- жил-был человек, от роду художник, но
не знал, что он художник; только почему то все портил чужие обои, рисуя на
них арабески. И вдруг его взяли на выучку, дали полотно и краски: целый день
вымазаны у него руки и лицо и самый нос, и ничего ему больше на свете не
нужно. Или жила-была девушка, от роду с неслыханным, несметным зарядом
нежности в душе; разбрызгивала эту нежность направо и налево, не считая и не
жалея и не выбирая, стоит ли, пока --
-- Пока не попала в ванну? Может быть.
Она зевнула и соскочила с кровати.
-- Одно несомненно: мой наряд скорее подходит для ванны, чем для
визита. И мы уже опять вернулись к началу начал -- к истории о том, как ваша
героиня "разбрызгивала нежность"; значит, круг сюжетов завершен, и я иду
спать. Утром напою вас кофе; только еще булочек не будет, но я вам поджарю
сухариков. Яйца как хотите -- всмятку или яичницу?
Но она еще с минуту простояла у моей кровати, прощаясь за руку;
смотрела на меня задумчиво, склонив голову на бок и щекоча себе губы
пушистым кончиком одной косы; опять как будто хотела нагнуться и раздумала.
-- О чем это вы молчите так нерешительно, Маруся?
Она не ответила, высвободила руку и пошла к двери, но у двери опять
остановилась и повернулась ко мне лицом.
-- О чем?
Она засмеялась и ответила мне так, как будто снова ей двадцать лет,
снова она рыжий котенок в муфте, ничему не научилась и ничего не забыла:
-- Я вам признаюсь. Я стояла и думала: надо бы с ним попрощаться по
особенному -- может быть и в самом деле не увидимся? Но, как изволите
видеть, я передумала. Мы с вами все сроки пропустили; и вообще не надо,
пусть так останется, как было. Мона Ванна (она опять зевнула) бьет челом
Жофруа Рюделю; впрочем, это, кажется, из двух разных опер. Засни, мой
родной; "сни меня", если можно так выразиться.
Она ушла. Где то пробило час ночи; после этого я слышал, как она
спускалась на нижний этаж, на цыпочках, но уже не босиком -- очевидно решила
дождаться мужа. Потом приехал Самойло; потом я заснул. Утром они меня
накормили кофе, яичницей, хрустящими горячими сухариками, проводили оба
ласково; бричка довезла меня до Люстдорфа, оттуда я на трамваях добрался до
Большого Фонтана и до Одессы, а назавтра уехал в Петербург.
XXIV. МАДМУАЗЕЛЬ И СИНЬОР
В том году в Петербург на гастроли приехала Лина Кавальери; кто то меня
зазвал полюбоваться на знаменитую красавицу, не то в "Лакмэ", не то в
"Таис". Впрочем, не кто то, а старый друг, которого уже раза два я в этом
рассказе поминал, не называя; и теперь не хочется назвать. Это он мне когда
то сказал, что кургузые "дрипки", подруги революционных экстернов 1902 года,
были переодетые дочери библейской Юдифи; и это он, через год или меньше
после того спектакля с Линой Кавальери, погиб у царя на виселице под
Сестрорецком. Теперь он жил в столице инкогнито: коренной одессит, мой
соученик по гимназии, он выдавал себя за итальянца, корреспондента
консервативной римской газеты, не знающего по-русски ни слова; говорил
по-итальянски, как флорентиец, по-французски с безукоризненно-подделанным
акцентом итальянца, завивал и фабрил усы, носил котелок и булавку с цацкой в
галстухе, -- вообще играл свою комедию безошибочно. Когда мы в первый раз
где то встретились, я, просидевший с ним годы на одной скамье (да и после
того мы часто встречались, еще недавно), просто не узнал его и даже не
заподозрил: так он точно контролировал свою внешность, интонацию, жесты. Он
сам мне открылся -- ему по одному делу понадобилась моя помощь за границей;
но и меня так захватила и дисциплинировала его выдержка, что даже наедине я
с ним никогда не заговаривал по-русски. Он был большой любитель оперы и
большой приверженец Лины Кавальери; а кроме того -- объяснил он мне, даже
бровью не моргнув -- "ведь она моя соотечественница".
-- Зовите (по-русски мы были на ты) меня изменником, -- шепнул он мне в
антракте, -- но дама в той ложе еще лучше Лины.
Я оглянулся на ту ложу и внутренне согласился с ним; и не удивился -- я
давно знал, что другую такую красавицу, как та дама в ложе, вряд ли
доведется встретить; мне, по крайней мере, не довелось ни раньше, ни после.
У нее были черные волосы и профиль греческой статуи, лоб и нос в одну черту
без перерыва, и роскошные плечи (я их помнил по девичьи худыми) были покаты,
как очертание амфоры там, где вместилище постепенно переходит в горлышко
сосуда. В волосах у нее была диадема, на груди тоже что то сверкало;
вечерний туалет, на тогдашнюю мерку "нескромный", от большого мастера, она
носила, как мы с вами пиджак, просто, привычно, незаметно. "В бомонде жила",
подивился я, вспоминая прошлое. На голых руках у нее были высокие перчатки;
я подумал: а ногти под ними теперь -- все еще обкусанные, или же только
подпилены маникюршей? Ее глаза я не сразу увидел, она сначала сидела боком;
потом повернула голову, отвечая своему спутнику во фраке, и стали видны
синие-синие глаза, совершенно небывалой, неправдоподобной какой то синевы.
Но цвет их я помнил, а вот что было ново и меня поразило: выражение этих
глаз. Не великий я чтец физиономий и взглядов, но тут и подслеповатому было
ясно, что в этих глазах четко прописана огромная любовь: странная любовь,
редкая в людском обиходе, жадная, властная, нетерпимая, суровая, а в то же
время нежная и послушная. Потом она взглянула на зал; мой сосед ей
поклонился, она кивнула с величавой любезностью, и тут встретилась глазами
со мною. Что то мне шепнуло: не кланяйся, ей этого не хочется.
Действительно, она равнодушно отвела взгляд дальше. Но в эту минуту
обернулся ее кавалер, сидевший к нам раньше спиною, и я невольно проговорил
в слух его имя:
-- Дотторе Верниччи?
-- Вот как? -- спросил мой сосед с любопытством, -- вы и его знаете? А
ее -- неужели не узнали?
Верниччи, увидав нас обоих, радостно закивал и стал знаками звать в их
ложу. У меня на то не было никакой охоты, во первых, из за нее, а кроме того
-- в зале могли оказаться знакомые, для которых не было тайной его ремесло.
Но сосед мой пробормотал под усы римское ругательство:
-- Accidenti a li mortacci sui. -- Я должен...
-- Скажите ему, что мне надо звонить в редакцию, -- попросил я, -- или
что хотите, только выручите меня. Да и синьора его по мне вряд ли
стосковалась.
После спектакля мы долго тащились на извозчике в ресторан "Вена", и он
мне рассказывал об этой паре. По своему титулу консервативного журналиста,
он бывал у Верниччи в Париже, где тот, конечно, тоже выдавал себя за
представителя седьмой державы; а по истинной крамольной своей профессии
хорошо знал истинную профессию моего римского знакомца.
-- Его шефы, -- говорил он, -- очень им дорожат; а по моему он -- то,
что сказал когда то Бисмарк о Наполеоне малом: "крупная, но непризнанная
бездарность".
-- Почему бездарность?
-- Да хотя бы вот почему: вы поверите -- он до сих пор не подозревает,
что мадмуазель Лаперванш ваша соотечественница?
Я вспомнил, что в Берне, когда мы встретились в банке и потом сидели в
кафе, ее имя не было названо, и выдала она себя ему сразу за иностранку.
Теперь оказалось, по рассказу моего приятеля, что вот уже сколько времени
она считается в Париже официальной подругой Верниччи, ездит с ним в качестве
"секретарши" по разным Европам, куда заносит его сыскная служба, и
называется Мадлен Лаперванш, или даже де Лаперванш; и бумаги в порядке,
получила визу на приезд в Россию.
-- И по-русски ни слова не знает: как я.
Он замолчал, потом вдруг наклонился к моему уху и, в первый раз за все
эти месяцы, прошептал по-русски:
-- Большая женщина. Таких, после революции, история на золотую доску
записывает.
Тут я совсем удивился и посмотрел на него вопросительно; он, однако,
покачал головою с видом, ясно говорившим: не расспрашивай, не имею права
объяснить; даже и то, что сказал тебе сейчас, ты забудь.
Остаток дороги мы молчали; и я про себя старался построить из осколков
портрет новой Лики. На золотую доску? Это, в его устах, может означать
только одно: Лика по-прежнему работает для какого-то подполья. В то же время
-- диадема, ожерелье, содержанка этого хорька... Собственно говоря, он-то
чем занимается? Иностранец, не могущий ни к кому из политической эмиграции
втереться в доверие, -- какая от него польза сыску, за что деньги платят? Но
видно, что платят; и он, по всем отзывам, правая рука того М.-М., ласкового,
приветливого выкреста, которым так дорожит российская охранка. Значит, и
Верниччи им полезен; но что тут делает Лика? Что тут за роль играет при
нечистом человеке эта странная душа, когда-то откликавшаяся только на
злопамятные голоса ненависти, а теперь так явно прильнувшая к нечистому
человеку? Ничего у меня не получалось, портрет не складывался; я только
смутно чувствовал, что дотронулся до какой то путаницы, может быть и святой,
но нечистой.
В "Вене" было, как всегда по ночам, полным полно. Не помню, как мы там
провели время, кто к нам подсел, И почему так долго мы там засиделись;
только помню, что спутник мой и на людях разыгрывал свою роль иностранца
изумительно. Был даже такой случай (может быть, не в этот раз, но все
равно): пришел с ночной работы другой журналист, тоже одессит, тоже наш
одноклассник, сел у нашего столика и провел с нами час; я их познакомил, был
им за переводчика; новопришедший, посреди разговора, вдруг мне сказал: -- А
в нем есть что то похожее на Л., правда? -- и я подтвердил, что есть; и тот
ушел, так и не догадываясь, что это и есть Л.
Вдруг, уже очень поздно, публика зашевелилась, шеи вытянулись, сидевшие
спиною повернули головы; и я тоже повернул голову -- метрдотель торжественно
вел к свободному столу Лику и Верниччи. У нее на плечах было что то меховое,
очень богатого вида, и шла она сквозь строй восторженных взглядов спокойно и
равнодушно. Провожатый уже указывал им, жестом отменного изящества, какой то
особенно почетный столик, но в эту минуту Верниччи увидел нас. Он бросился
ко мне со всегдашней своей экспансивностью, опять тряс мою руку обеими
руками нескончаемо, за одну минуту произнес длинную речь о том, как он рад
этой встрече, а потом указал на Лику:
-- Неужели не узнаете мадемуазель Мадлен? ведь это вы нас и
познакомили.
-- Здравствуйте, мсье, -- сказала она по-французски, подавая мне руку;
ее голос звучал учтиво и равнодушно, глаза смотрели на меня спокойно и
уверенно. Я пробормотал:
-- Мадемуазель де Лаперванш так изменилась... -- Тут я вспомнил, что
при таком случае, в присутствии итальянца, надо вставить комплимент, и
прибавил: -- Звезда стала солнцем: -- или что то в этом роде.
-- Разрешите присесть? -- спросил он. -- Мерси, метрдотель, мы
останемся здесь.
Я уж внутренне махнул рукою на страх, что люди увидят меня,
либерального журналиста, в таком дружеском соседстве с господином, о котором
они, быть может, слыхали; но от самой создавшейся неразберихи меня в
холодный пот ударило. У меня за столом две маски, и все мы втроем дурачим
четвертого; он того стоит, мне его не жаль, но сумею ли я, совершенный
новичок, выдержать свою роль в этом лицедействе? И зачем? Я-то, собственно,
тут при чем? Была у меня мысль извиниться, отговориться работой и уйти; но
все знают, до чего это трудно. Актеры соловцовской труппы, с которыми я
когда то в Одессе был близок, объясняли мне, что самое трудное на сцене --
это уметь "отшиться", уйти без неловкости, ничего не зацепив; в жизни это
еще сложнее, чем на сцене. Я остался, взял себя в руки и решил поменьше
говорить, чтобы как-нибудь не выдать моих переодетых одесситов. Это
оказалось не так трудно -- Верниччи говорил без умолку, мой приятель ему
вторил, моего содействия почти не требовалось.
Верниччи оказался интересным и очаровательным собеседником. О чем он
рассказывал, я, конечно, уж не помню; но тут была и мировая политика, и все
новые книги, что вышли на западе, и закат Элеоноры Дузе, и школа Маринетти,
и двадцать анекдотов о королях и министрах, один другого забавнее. В то же
время он выбрал из списка вин какую-то особенную марку, метрдотель даже
вытянулся на вытяжку, услышав название. У меня в душе заворчали сразу все
мои мещанские предрассудки:
пить из его бутылки? Но выручил мой приятель: объявил безапелляционно,
что хозяева стола -- мы, никаких возражений, "когда встретимся у вас в
Париже, вы реваншируетесь"... У меня отлегло от сердца, и на радостях я пил
больше всех; мы заказали вторую бутылку и третью, и понемногу мое смущение
прошло.
Помню такой момент: Лика разговаривала с моим другом, Верниччи хотел ей
что то сказать и положил руку ей на руку. Она повернула к нему голову и
слушала, но смотрела не на него, а на его руку: и опять у нее в глазах и во
всем лице отпечаталось то самое выражение "твоя", хищное и покорное, рабье и
рабовладельческое, что меня давеча поразило в театре. "Господи!", подумал я,
действительно ломая голову над этой загадкой, -- "влюблена, как цыганка, --
и лжет ему, как цыганка? в чем дело?"
Он сказал ей, что хотел, снял руку; она опять заговорила с моим
приятелем, все по-французски, мсье, мадмуазель. Верниччи обернулся ко мне,
но сначала молчал; вдруг он поднял на меня глаза, и, несмотря на все мое
предубеждение, это был подлинный задушевный взгляд очень искреннего доброго
малого.
-- Вы, -- проговорил он вполголоса, -- сами того не зная, сделали мое
счастье на всю жизнь.
От вина, должно быть, я расчувствовался: его слова меня прямо тронули.
Без вины виноватый, я в душе застыдился: уж не мог разобрать, кто тут кого
больше обманывает, кто кому глубже копает яму, но этого гоя, уж каков он ни
есть, помогаю сегодня дурачить я. "Счастье на всю жизнь"... собственно, раз
он у моего стола и пьет мое вино, полагалось бы хоть намекнуть ему, что не
надолго такое счастье, что где то в его перине уже торчит ржавая игла --
какая не знаю, но ржавчина ядовитая, и конец будет плохой. -- Конечно,
ничего я ему не сказал, молча дал ему опять потрясти мою руку, и запил свое
смущение пятым или шестым стаканом.
А в конце помню и такой момент, когда Верниччи и мой приятель вышли, и
я остался с Ликой вдвоем. Мы сидели друг против друга; она мне указала на
место Верниччи -- "сядьте ближе". Я послушался. Кругом стоял полупьяный
говор, на наш стол уже никто не обращал внимания; она проговорила по-русски,
почти беззвучно:
-- Вы давно из Одессы?
Я так же беззвучно ответил, что все здоровы (а жив ли был еще Марко? не
помню); и про Марусю и ребенка в Овидиополе.
-- Ставлю вам пятерку, -- сказала она, -- я сначала боялась, что вы
как-нибудь обмолвитесь. Нашим тоже не говорите об этой встрече.
Тон ее, хоть она в эту минуту говорила со мной о своих секретах, был ее
старый тон, холодный, не подпускающий -- я подумал: "точно с прислугой,
которой велят унести объедки". Вдруг мне в голову ударила огромная злоба --
неприязнь целой жизни, вся взаимная полярность нашего склада, вся моя жуть
перед такой душой без святынь и без категорий добра и зла; может быть,
сознаюсь, еще больше ударили в голову те несчетные стаканы vendange 1872. Я
ответил ей резко:
-- Не только им не расскажу, а сам об этом кошмаре постараюсь забыть.
Вы чудовище, Лика: живете со шпионом, влюблены в него, как кошка, и сами за
ним шпионите для других Я не верю, чтоб и хорошему делу стоило так служить.
Синие глаза смотрели на меня высокомерно и безучастно; она медленно и
очень спокойно ответила:
-- Стоит.
Карьера Верниччи оборвалась через год после того; катастрофа,
подробности которой и до сих пор еще неизвестны, едва не опрокинула,
говорят, и его шефа, выкреста М.-М. Какую они тогда вдвоем затевали
гнусность, я точно не знаю; говорят, тут и Евно Азеф был замешан,
предполагалось подготовить важное покушение, в последний момент его
расстроить, переловить множество ценного народу из боевой организации; может
быть так, а может быть и не так. Но что то затевалось крупное, и нити шли из
Парижа; и накануне развязки весь план, за который отвечал Верниччи, появился
в нелегальной печати. Верниччи с того дня исчез; даже в Италии о нем больше
никто никогда не слыхал; кто то мне говорил, будто он уехал в Аргентину и
там пропал. Не по дороге ли туда пропал он, тоже давши смыть себя с палубы
волною? Потому что уж очень доверчиво сказал он мне тогда за вином: "счастье
на всю жизнь".
О Мадлен де Лаперванш не попало в печать ни слова. Анна Михайловна как
то мне сказала, что Лика уехала из Парижа, а где она -- неведомо; и у Анны
Михайловны при этом уже тряслась по старушечьи почти совсем седая голова. Я
бы расспросил о Лике того друга, но его вскоре выследили и захватили, все
еще с итальянским паспортом, и теперь его уже не было на свете.
У турок еще до сих пор, кажется (и я уже где то этим похвастался),
Одессу в официальных документах называют Ходжа-бей, по старинному имени того
места на черноморском берегу. У нас в городе это имя сохранилось только в
названии одного из лиманов: Хаджибейский лиман. На Хаджибейском лимане,
летом 1909-го года, приблизительно, кончился любимец мой Сережа; впрочем,
технически остался жив, и, пока живы были родители, конечно, не покинут; я
даже думаю, что не будет покинут, покуда жив Торик; а живы ли еще Анна
Михайловна и Игнац Альбертович и Торик, и сам Сережа, не знаю -- с 15-го
года не был в России, с 17-го никто мне оттуда не пишет. Во всяком случае,
тогда, на Хаджибейском лимане, он остался технически жив, но для себя и для
всех кончился. Я его с тех пор не видал. Несколько месяцев после события он
еще проживал у отца, но гостям не показывался, даже мне; потом уехал из дому
и зарылся в нору, неведомо где, без знакомых, без книг, один-одинешенек в
вечной темноте. Если жив еще, то сегодня, может быть, рвет на себе волосы
или тихонько стонет, шепча: если бы я только еще на полвершка дальше
отшатнулся, вправо или влево...
Знаменитый у нас адвокат, который защищал Ровенского (добился для него,
действительно, большого снисхождения -- полтора года арестантских рот, если
верно помню), был хороший мой знакомый. После процесса я просидел у него
долгий вечер, чуть не ночь, и расспрашивал о том, чего никак понять не мог.
Не о роли Сережи, конечно: для Сережи, должно быть, и это необычное
переживание, пока не кончилось такой страшной расплатой, было только еще
одним любопытным опытом над неограниченными возможностями жизни; проделывая
тот опыт, он, вероятно, совсем не был ни потрясен, ни даже просто захвачен
его чудовищной неестественностью -- Сережа, вероятно, опять только
развлекался, и через час после начала "опыта" уже внутренне подавлял легкую
зевоту. -- Но те? как это могло случиться? Я знал их давно, с первого своего
посещения у Анны Михайловны; знал, что весь наш круг и "весь город"
подтрунивал над их причудами, над их подчеркнутым сходством и одинаковыми
платьями; пусть даже над их увлечением Сережей, под конец уже совсем явным;
но я знал их давно и, как мне казалось, знал насквозь, помнил их
безукоризненную светскую сдержанность -- кажется, никогда (кроме разве той
пьяной "потемкинской" ночи в Александровском парке, под крепостью -- но ведь
тогда все устои мира у нас на минуту пошатнулись), никогда с их стороны я и
мало-мальски вольного жеста не видел; и вдруг...
Я ничего не понимал.
-- Все дело в постепенности, -- говорил мне адвокат, -- в
постепенности, и еще в одной коротенькой фразе, вопросительной фразе из трех
коротеньких слов. Вы мне только что рассказали, что давно слышали именно эту
фразу от самого Сергея Мильгрома -- когда еще юношей отговаривали его от
общения с какой то шайкой шулеров; но дело не в Сергее Мильгроме, дело в
том, что эта фраза характерна, убийственно характерна, для всего его
поколения. Фраза эта гласит: "а почему нельзя?". Уверяю вас, что никакая
мощность агитации не сравнится, по разъедающему своему действию, с этим
вопросом. Нравственное равновесие человечества искони держится именно только
на том, что есть аксиомы: есть запертые двери с надписью "нельзя". Просто
"нельзя", без объяснений, аксиомы держатся прочно, и двери заперты, и
половицы не проваливаются, и обращение планет вокруг солнца совершается по
заведенному порядку. Но поставьте только раз этот вопрос: а почему "нельзя"
? -- и аксиомы рухнут. Ошибочно думать, будто аксиома есть очевидность,
которую "не стоит" доказывать, до того она всем ясна: нет, друг мой,
аксиомой называется такое положение, которое (немыслимо доказать; немыслимо,
даже если бы весь мир (взбунтовался и потребовал: докажи! И как только
вопрос этот поставлен -- кончено. Эта коротенькая фраза -- все равно, что
разрыв-трава: все запертые двери перед нею разлетаются в дребезги; нет
больше "нельзя", все "можно"; не только правила условной морали, вроде "не
украдь" или "не лги", но даже самые безотчетные, самые подкожные (как в этом
деле) реакции человеческой натуры -- стыд, физическая брезгливость, голос
крови -- все рассыпается прахом. Для нравственных устоев наших этот
коротенький вопрос -- то же самое, что та бутылочка серной кислоты для глаз
и лица. Ваш Сергей Мильгром только получил обратно ту же дозу, которую сам
первый плеснул куда не полагается.
Большой оратор был тот адвокат; и я всегда замечал, что в беседе с
такими нужно сто пудов терпения. У них, на душе всегда лежит запас
неиспользованного красноречия: надо ему дать излиться, покуда начнется
разговор о сути. Они -- вроде крана для горячей воды: сначала идет холодная,
и долго. Впрочем, может быть, я слишком любил Сережу и злился за эту правду.
-- А второе -- постепенность, -- продолжал адвокат. -- Нет такого
трудного предприятия, которого нельзя было бы одолеть секретом постепенного
воздействия. Нужно только хорошенько разобраться в понятии "трудность",
расчленить его на отдельные моменты, и не браться за все сразу, а по
порядку, один за другим: на каждый сначала брызнуть той самой кислотою,
подождать, пока подействует кислота и пройдет боль, а потом -- номер второй,
по очереди. Разрешите задать нескромный вопрос, ведь мы наедине: случилось
ли вам когда-нибудь -- я ищу слов -- débaucher une jeune fille
trés pure? Или лучше оставим личные наши тайны, обратимся к литературе:
что такое был Дон-Жуан? Не байроновский, и даже не тот, которого изобразили
Тирсо де Молина и особенно потом Соррилья: тот действует натиском,
магнетизмом, ему достаточно одного монолога, после которого чистейшая девица
на двенадцатом стихе уже побеждена. Это чепуха. Нет, вы попробуйте
вообразить себе настоящего, "исторического" Дон-Жуана: Хуан Тенорио, сын
захудалого помещика из окрестностей Севильи, мот и бретер, но совсем не
Адонис. Чем он брал? Тысяча три жертвы в одной Испании, не считая
заграничных, и в том числе такие недотроги, как донна Анна: чем он их
победил, одну за другой?
(Мой собеседник хорошо знал по-испански и выговаривал "донья Ана"; но
мы не обязаны).
-- Я утверждаю: не магнетизмом, продолжал он, -- а исключительно
постепенностью. Донна Анна говорит: не хочу вас слушать, "нельзя!". А
Дон-Жуан спрашивает: а почему "нельзя"? И готово: через два дня она уже
слушает. Но есть у нее второй окоп: на свидание ночью ни за что не приду --
уж это действительно нельзя! Он опять: а почему "нельзя"? И через три дня,
уже на тайном свидании, он начинает применять ту же разрыв-траву к поцелую
руки, к поцелую щеки, потом постепенно к каждой пуговке или пряжке ее
многосложного наряда...
Я потерял терпение и прервал:
-- Но ведь то была каждый раз одна донна Анна, а не две сразу! и не
мать и дочь!
-- Разница, если вдуматься, только в том, что слушали силлогизмы вашего
друга две пары ушей, а не одна; а силлогизмы придумать и на эту тему не
трудно. Тем более, что влюблены в него были несомненно обе; и времени было
много. Дружба эта тянется лет восемь. Очень легко могу себе представить все
стадии развития этого милого m&уgrave;nageá trois. Сначала, скажем,
сидели они втроем на скале, где-нибудь на берегу моря, луна и прочее; он
сидит посередине; взял обеих за руки, маму Нюру за правую, дочку Нюту за
левую, держит и не выпускает. В первый раз они, впрочем, высвободили руки,
мама Нюра даже, вероятно, погрозила ему пальцем: нельзя. А он обиделся,
огорчился, надулся: почему нельзя? докажите. Конечно, нельзя доказать; в
следующий раз руки остались у него. Через месяц -- или через год, времени
было масса -- уже его руки вокруг обеих талий; сначала без прижима, потом
"с"... Не стоит продолжать, можете и сами дополнить, мне тошно. Только
поймите одно: если это все проделывать осторожно и постепенно и медленно, то
обе дамы так с этим нарастанием тройственной интимности свыкаются и
срастаются, что посторонние, конечно, ничего заметить не могут. Вы говорили
давеча: как же могло это за столько лет никому не броситься в глаза?
"Бросаются в глаза" только резкие, внезапные перемены: выдают себя только
люди, еще не свыкшиеся с новым положением; постепенность, напротив -- залог
полного самообладания. Вероятно, уже давно они втроем проводили афинские
ночи -- содомские ночи, если хотите, -- по разным гостиницам, и в той именно
обстановке, которую мне описывал, задыхаясь, несчастный Ровенский... брр! а
на завтра, на людях, при вас, ни намека нескромного, ни лишнего
прикосновения, только невинно влюбленные женские глаза... сам-то ваш Сергей,
конечно, ничуть не был "влюблен".
Я заходил по комнате, стараясь придумать форму для вопроса, который мне
почему то казался тогда самым важным и самым страшным; но ничего не надумал,
остановился и спросил в упор:
-- А это правда, что они ему давали деньги?
Он ответил:
-- Несомненно. Установленный фактический факт. Между нами -- хотя я
считаю Ровенского очень порядочным человеком -- у меня ясное впечатление,
что именно эта сторона дела и явилась для него последней каплей яду. Не по
скупости: совсем он не скупой человек и не копеечник; типичный одесский
еврейский коммерсант, прибрел когда то нищим из местечка Волегоцулово, попал
в эту портовую метелицу радужных и "Катенек" и векселей приходящих и
уходящих, и сразу потерял счет деньгам. Разве вы сами не замечали, что дед
наш Шейлок, к сожалению, давно умер и потомства не оставил? Нет теперь во
всем православии, несмотря на всю ширь славянской души, такого безнадежного
мота -- по-одесски "шарлатан" -- как этот тип полуобруселого еврея. Если бы
ваши Нюра и Нюта разоряли его на брильянты, Ровенский бы только кряхтел да
подписывал вексельные жиры. Но это -- брр!
Тут он вспомнил посмотреть на меня и увидел, должно быть, что со мной
творится. Я забился в самый далекий угол; если бы мог, в стену бы влип от
боли и стыда. Это, правда, говорил мне сам когда то о себе Сережа, у них в
гостиной, в перерывах между куплетами французской песенки: Si vous le
saviez, mesdames, vous iriez couper les joncs -- еще тогда говорил, или
намекал, что ничуть ему не страшны были бы женские подарки; и мне тогда
показалось, что я ему поверил. Теперь было ясно, что не поверил; всему
поверил, только не этому...
Мой собеседник был хороший, душевный человек; напрасно у меня до сих
пор о нем проскальзывали досадливые нотки, словно его это вина, что
свихнулся у меня большой и красивый любимец. Он заговорил по другому,
участливо:
-- А вы на это иначе взгляните. Тот же вопрос и та же, верно,
постепенность, но уже не с его стороны. В первый раз он с хохотом рассказал
Нюре и Нюте: вдрызг проигрался, хоть стреляйся! Они сейчас предложили ему
помочь; он их высмеял, может быть и слегка отодрал за уши, если они уже были
достаточно тогда между собою близки для такой формы выговора за несуразное
предложение. Но при этом Нюра, или Нюта, или обе, успели спросить:
позвольте, Сережа, в чем дело -- почему нельзя? Его же собственным оружием,
понимаете. Прошел месяц или год, или три, кислота действовала, предрассудок
разрыхлялся (ведь это же, действительно, только предрассудок: что деньги
будто бы не пахнут, это обонятельная и химическая неправда, но ведь пола-то
у денег в самом деле нет). Словом, -- неизбежно пришел момент, когда
оказалось, что "можно"...
-- Страшное это слово "можно", -- говорил он мне потом, чуть ли не на
заре. -- И вот что я вам скажу, только не повторяйте от моего имени -- я, вы
знаете, давно переменил в паспорте вероисповедную пометку и тем отказался от
права судить свою бывшую общину; да и принципиально я, как вы знаете, не ваш
единомышленник, верю в ассимиляцию и сознательно хочу ассимиляции. Но нельзя
закрывать глаз на то, что первые стадии массовой ассимиляции -- тяжелое
явление. Русская культура велика и бездонна, как море, и чиста, как море;
но, когда вы с морского берега сходите в воду, первые сажени приходится
плыть среди гнилой тины, щепок, арбузных корок... Ассимиляция начинается
именно с разрыхления старых предрассудков; а предрассудок -- святая вещь,
это еще Баратынский пел: "он -- обломок древней правды". Может быть, все
истинное содержание морали, даже содержание самого понятия культурности
состоит из предрассудков; но в каждой культуре они -- свои, самобытные, и
при переходе от одной ко второй получается долгий срок перерыва -- прежние
пали, новые еще не усвоены; очень долгий срок, может быть и не одно, и не
два поколения, а больше. И знаете что? только не рассердитесь, вы большой у
нас муниципальный патриот -- я тоже -- а все таки это правда: нет во всей
России более яркой панорамы этого перерыва культурной преемственности, чем
наша добрая веселая Одесса. Я не только о евреях говорю: то же с греками, с
итальянцами, с поляками, даже с "русскими" -- ведь и они, в массе, природные
хохлы, только "пошылысь у кацапы"; но всего яснее, конечно, это сказалось на
евреях. Оттуда, вероятно, и особая эта задорная искрометность здешней среды,
над которой так смеется вся Россия и которую мы с вами так любим: так ведь
нередко бывает, что эпохи развала устоев считаются эпохами блеска. Но оттуда
же и жульничество наше, и ласковое отношение к вранью бытовому и торговому,
и что на десять девиц из почтенных домов девять деми-вьерж, а десятая
зеро-вьерж; и Сергей ваш оттуда, и Нюра, и Нюта.
-- ...А как это все произошло? -- спросил я. Градоначальник запретил
газетам писать о подробностях дела на Хаджибейском лимане, суд прошел при
закрытых дверях; репортер Штрок из нашей редакции, конечно, все знал,
пытался даже рассказать и мне, но я его прогнал. Зачем тут спросил, сам не
знаю; ответ адвоката хорошо помню, но подробно рассказывать не хочется,
разве что несколько штрихов. Ровенский еще за три месяца до того раздобыл
эту бутылочку с кислотой; очень мучился человек, уже больше года почти не
говорил с женой и дочерью, старался по делам уезжать из города, чаще всего
без надобности. В этот вечер тоже сказал (горничной), будто уезжает, а сам
спрятался в кофейне на Ланжероновской, наискось против своего подъезда;
видел, как подъехал на лихаче Сережа, и как уехал с дамами. Проследил их до
лимана и до той гостиницы; околачивался под освещенными окнами час и два,
пока там не потухла керосиновая лампа. Тогда позвонил, снял и для себя
комнату, в чулках прошел по коридору, в левой руке была бутылочка, в правой
нарочно заготовленный молоток; молотком он и прошиб расшатанный дешевый
замок того номера и ворвался в комнату. Лампу они потушили, но на столике
горела стеариновая свеча. Увидя молоток и сумасшедшие глаза, Сережа вскочил
и бросился вырывать молоток; Ровенский не боролся, уступил, но перенес
бутылочку из левой руки в правую и плеснул Сереже в лицо. Потом он говорил,
что хотел то же сделать и с женой, а дочку Нюту "просто хотел задушить", но
уже не поднялась рука; или "сразу все равно стало", как он говорил потом на
суде.
Седенькая уже была старушка Анна Михайловна, когда я ее после этого
увидел, а ведь только лет пять тому назад казалась старшей сестрой Маруси. Я
у них долго просидел, дурень дурнем, слова не шли из горла; она тоже
молчала. Игнац Альбертович, тоже страшно подавшийся по внешности, и тут еще
не сдался внутренне: старался поддержать разговор на посторонние темы,
цитировал длинные строки из виландова "Оберона"; даже из Клопштока.
Письмо, под влиянием которого я собрался еще раз поехать в гости к
Марусе, было длинное и беспорядочное. Конечно, слов я уже не помню, и нечего
притворяться, будто помню; а все же так оно живо у меня в памяти, что не
только его мысли, но и звучание берусь восстановить верно.
"Милый друг, милый друг, мне что то неладно стало. Самойло прелесть, на
редкость тонкая душа и рыцарь; даже то умеет, чего никто не умеет -- молчать
и стушевываться, когда я зла на все планеты. Он, верно, думает, что больше
всего я зла на него: честное слово, неправда. Иногда про себя перебираю: за
кем было бы мне лучше замужем изо всех, кого можно было женить на себе? Ни
за кем бы так хорошо не было. Он даже сердиться умеет красиво, как природный
барин. Мы не разлюбились, у нас и теперь бывают совсем пьяные встречи. Этого
не полагается докладывать знакомым мальчикам, но "Марусе все можно". Самойло
не при чем.
"Дети мои -- оба лучше. Старший уже помощник, волочит мне метелку или
приносит спички: спички приносит, когда я подметаю, а метелку на кухню,
когда я кипячу молоко; но намерения у него самые благосклонные. Смотрит при
этом в глаза снизу вверх серьезными глазами честного пса... вся душа
переворачивается. И язык у него смешной -- наполовину хохлацкий в честь
горничной Гапки, и все глаголы в женском роде из-за привычки к дамскому
обществу: ввалится ко мне в спальню и заявляет: -- Бачь, мамо, я пришла! --
Меньшой, при обряде лишения прав по закону вашей нации, окрещен Жоржиком;
его главный вклад в семейное благополучие состоит в том, что он никогда не
плачет, даже когда мыло попадает в глаза: выдержанный мужчина, в дедушку
пойдет, надо будет пригласить фрайлен, знающую стихи Leier und Schwert, чьи
не помню; но пока ему еще до первого годового юбилея далеко.
"Мне с ними со всеми тремя страшно уютно. Ничего мне больше не надо. Не
осталось никакого любопытства ни к чему, кроме одного -- какой будет Мишка
через месяц и Жоржик через неделю (у них это целые возрасты). Так бы села и
написала книгу: "Домострой счастливой женщины". Каждое слово было бы в ней
святейшая правда; а вся книга зато -- вряд ли.
"Ничего больше не надо" -- это правда. Только вот в чем заноза: люди
думают, будто "ничего больше не надо" -- то же самое, что "достаточно". Не
знаю... Ведь бывает, что у Мишки нет аппетита, но это не значит, что Мишка
тогда сыт.
"Стольный город Овидиополь тоже не виноват. Прошлой зимой, когда вас не
было, провела месяц в Одессе, была во всех театрах и на двух балах: ничего,
не скучала, но уехала обратно с удовольствием. "Ничего мне не надо".
"Я адски похорошела; летом сюда съезжается много молодежи, по большей
части русские -- успех имею у них великий, но никто не смеет ухаживать по
настоящему: такая у меня репутация семьянинки. И слава Богу: я знаю, что
теперь (порви письмо, кусочки сожги) меня кто угодно, лишь бы только был
чистенько умытый, одним мизинцем мог бы снять с полочки верных жен; даже,
вероятно, без всяких прежних "границ", прямо на седьмое небо. И ничуть не
потому, чтобы меня тянуло на седьмое небо: я ведь сказала -- не осталось у
меня никакого любопытства: просто так. Идет человек по дороге, дорога ведет
именно туда, куда ему надо и куда хочется; вдруг справа тропинка, самая
обыкновенная, ничуть не живописная, не таинственная; может быть, даже
написано на ней "тупик". А человек вдруг остановился и думает: не свернуть
ли? Зачем свернуть, куда свернуть, он и сам не знает; но я не ручаюсь, что
не свернет. Не о таких ли говорят умные люди: пропащий человек?
"Я теперь ужасно много про себя философствую; не рассердитесь, если
выйдет бессвязно. Может быть, есть души, которым нет на свете места вне
молодости. "Молодость" -- это значит такая пора, когда ничего еще не решено,
поэтому все еще можно решить, как хочется, или как тебе хоть кажется. Стоишь
себе на пороге всего мира, перед тобою сто дверей, можешь открыть какую
угодно, заглянуть, не входя, -. не понравится, захлопни и попробуй другую.
Это дает страшное ощущение всемогущества: молодость и есть всемогущество. А
потом, когда все это прошло, -- точно сняли с тебя императорскую корону. Все
люди с этим мирятся, т. е. даже не подозревают, что была корона и ее сняли;
но есть, очевидно, исключения. Иногда мне кажется так: низложенных королей
много было в истории, но у них оставалось важное утешение -- мечтать о
реванше. Но представьте себе такого короля, который на минуту отлучился из
королевства -- а королевство взяло и утонуло, как Атлантида. Ходи весь век
разжалованный, и даже мечтать не о чем. -- Должно быть, годам к 35 это все
пройдет.
"Милый друг, приезжайте ко мне хоть на неделю. Это звучит подозрительно
после того, что я писала только что о мизинце, которым можно меня снять с
полочки; но ведь уже мы оба знаем, что этого романа почему-то Господь Бог
решил никогда не дописывать. Часто я думаю, что это странно и жаль. Одну
главу Он написал и это была лучшая ночь моей жизни. Но продолжения не будет,
не бойтесь и приезжайте. Ничему вы не поможете, ведь нельзя лечить от
болезни, которой нет; но мне хочется хоть недели каникул".
Еще помню, что около того времени пришел я раз в парикмахерскую
Фонберга на Ришельевской, и подмастерье Куба, повязывая салфетку, в сотый
раз сказал мне сочувственно:
-- Напрасно вы бреетесь: волос у вас жорсткий, а шкура нежная.
В эту минуту с соседнего кресла мне сказали "драсте", и, повернувшись,
я под сплошным париком из шампуня узнал Абрама Моисеевича. Мы разговорились,
сначала на нейтральные темы, из-за публичного места.
-- Как поживает брат ваш Борис Маврикиевич?
-- Бейреш? Бейреш в Италии; не более и не менее. Не мог поехать в
Мариенбад, как все люди; непременно ему нужно в Италию. Аристократ. Пишет
письма с описаниями.
И, не взирая на публичное место, Абрам Моисеевич вытащил из кармана
открытку и, мешая работать подмастерью, вслух прочитал мне "бейрешево"
сочинение. Были там, действительно, описания соборов и каналов, отменно
возвышенного слога, но я их не помню. Запомнил только две фразы, в таком
роде:
"Зато кормят неважно, особенно мясное: сегодня подали такой антрекот,
что я подозреваю, что это вовсе конница, а не антрекот".
"Передан мой нижайший поклон Игнацу и особенно незабвенной Анюте; я
положительно убит горем по делу о недоразумении с Сережей, хотя он всегда
был такой шалопай".
Подпись: "Твой истопреданный брат Бор.".
Когда мы вышли, я его проводил до его дома на Колонтаевской, и всю
дорогу он говорил о разных членах семейства Мильгром; с большим чувством
говорил.
-- Шалопай он был шалопай, я ему тоже еще не простил тот "экс", хотя,
конечно, большую радость они мне доставили, что обобрали Бейреша тоже. Но
надо быть такой коровой, как Бейреш, чтобы теперь так писать. Как будто весь
итог Сережиного баланса -- это и есть "шалопай". А я вам говорю, что Сережа
просто на тридцать лет поздно родился, или, скажем, на пятьдесят. Когда я
был еще дитем, только такие люди тут в Одессе и делали карьеру. Один богател
на контрабанде, другой на том, что грузил зерно по тридцать процентов мусора
на мешок; а третий просто подкупал приемщика, получал у него обратно
погашенные коноссаменты, смывал печати фотоженом и потом продавал их дуракам
в Херсоне -- на то и Херсон. За то сами были богаты, и вокруг каждого
кормилось сколько душ. Честное слово, тогда лучше было. В портовом городе,
который хочет расти, нужны жулики, шесть пальцев на каждой руке и на каждом
пальце крючок; сибирники тут нужны, а не честные телята, как я и Бейреш или
Мильгром -- нам место в бейсамедреше, учить мишнаес, а не по хлебной части.
Смотрите, был город первый на всю Россию, а теперь скисает, уже завидует
какому то Николаеву, еще завтра будет завидовать Очакову. Сорок лет тому
назад был бы этот Сережа, верно, первый гвир на все Черное море, и мы с
Бейрешем были бы при нем лапетутниками -- и этот болван Ровенский тоже, не
смотря на.
Потом он мне рассказал про Анну Михайловну: странно, до того разговора
я ничего не знал о ее прошлой жизни.
-- Э, что там ваши либеральные правила, будто жениться надо по любви.
Это все равно, что материю на пиджак выбирать с завязанными глазами. Когда
мальчишка и девчонка влюбились, это ведь значит, что оба слепые. Хотите
знать, как вышла замуж Анюта Фальк? Старый Фальк был умница, посмотрит на
человека и сразу может составить гросбух всей его натуры. Едет он однажды из
Киева в Одессу, а напротив сидит молодой человек и читает немецкую газету.
Разговорились. На какой-то станции Фальк хотел пойти в буфет, а молодой
человек говорит: не надо, у меня хватит на двоих. Снял с полки корзиночку,
там у него чайник, нарезанные булочки, сало, варшавская колбаса, крутые
яйца, ножички, вилочки, блюдечки, все привязано ремешками. Фальк закусил, а
потом спрашивает: как вас зовут? -- Мильгром. -- Из каких Мильгромов --
волынских или таврических? -- Из Житомира. -- Холостой? -- Холостой. --
Слушайте, заезжайте не в гостиницу, а ко мне: -- я посмотрю -- может быть,
выдам за вас свою дочку, девятнадцать лет, сделала гимназиум, играет на
пианино (но не каждый день), приданое двадцать тысяч. -- Через месяц
поставили свадьбу, и вышла самая любящая пара на весь город. Я бываю во всех
знатных домах, адвокаты и доктора, и даже у гофмаклера свой человек: я у них
всегда чувствую, что достаточно жене сказать самое обыкновенное слово -- ну,
"крышка" -- и уже господин хозяин злится, потому что ему эта "крышка"
напоминает какую то ихнюю драку в позапрошлом году. А у Мильгромов --
никогда.
-- А что они вытерпели! Старый Фальк сейчас после свадьбы прогорел;
тогда была турецкая война и закрылись Дарданеллы. Он, конечно, ни зятю, ни
дочке ни слова не сказал. Но они сами три дня думали и молчали, на третий
день пошли в театр на какую то комедию, Островского или как его зовут; на
галерку пошли, они помаленьку еще тогда жили, квартира на Кузнечной. Комедия
была, видно, очень такая: просто взяла обоих за печенку; вышли из театра и
решили вернуть Фальку все двадцать тысяч. Вы скажете: это Игнац? А я вам
говорю: это она. Вообще знайте, раз навсегда, про все еврейские дома: если
нужно решить что то очень трудное, всегда решает "она". Моя Лея уж на что
была глупая, как пробка, но мне бы и в голову не пришло, скажем, баржу
купить, или продать дом на Слободке Романовке, без того, чтобы она сказала:
"Я знаю? делай, как знаешь". -- Когда родилась Маруся, у них не то что
няньки, даже горничной не было, Анюта на базар ходила...
Под конец он перешел на свою любимую тему:
-- Я вам говорю, за все горе им заплотит Торик. Хотите знать Торика?
Есть у меня служащий, так себе червячок, и фамилия обидная: Фунтик; я его,
может быть, два раза посылал к Торику с бумагами. Так у него была на прошлой
неделе у сына бармицва. Так что делает Торик? Послал поздравительное письмо
и мешочек бархатный для тфилин; и не это главное, а в письме он самого
Фунтика и мадам Фунтик назвал по имени отчеству (я их сто лет знаю и не
знал, что у них были папаши). Вот он Торик: все у него записано, со всеми
вежливый, все равно, Ашкенази, или Бродский, или чей то десятый приказчик. И
какая деловая голова! Когда пишет бумагу, он уже раньше знает, что тот на
нее ответит -- и таки подставляет ему такие мышеловки, чтобы тот ответил
глупость. Торик будет первый человек в Одессе; прямо жалко, что еврей -- был
бы городской голова или прямо министр. Он, увидите, за все родителям
заплотит; за Сережино "недоразумение" (как вам нравится мой Бейреш? дал же
Бог человеку талант найти самое подходящее слово, точка в точку); и за Лику,
если она только прежде не приедет сюда всех нас повесить, начиная с
родителей; и за Маркуса, который бежал на всякий звонок, не зная где звонят,
и на том свете, должно быть, тоже еще не разобрал, где ган-Эйден и где
черти; и за Марусю...
Я насторожился:
-- А чем плохо Марусе?
-- Чем плохо, я не знаю. Говорят, живется им ничего себе. Только я вам
ломанной копейки не дам за ихнее ничего себе. Я сам очень упрямый, но
посадите вы около меня человека еще упрямее, который десять лет будет на
меня смотреть из угла и -- не то, чтобы вслух повторять, Боже упаси, -- а
так, молча "думать на меня": стань часовых дел мастером -- стань мастером --
стань... -- в конце концов, ей богу, даже я начну починять колесики и
закручивать спружины; а хорошего ничего не будет, извините. Так ее и
обработал этот Самойло. Дурак Игнац, и Анюта дура: надо было сделать, как
старый Фальк, самим для нее выбрать какого-нибудь такого, который умеет хоть
раз в месяц ни с того, ни с сего перекувырнуться... Вроде вас.
Проводив его, я пошел на почту и послал Марусе телеграмму: "Приеду
вторник на неделю".
Я восстановил обстоятельства этого события сейчас же на месте -- я
прибыл в Овидиополь через сутки. Много мне помог наш репортер Штрок,
которого редакция туда специально послала; и он был так потрясен, так лично
принял это горе, что раз в жизни забыл прикрасы и выкрутасы, а просто
действительно расспросил всех, кого можно было, и все передавал подробно
мне. Очевидица была только одна, та гречанка-соседка, по имени Каллиопа
Несторовна, и она тоже не все могла видеть -- окна ее квартиры и квартиры
Самойло Козодоя во втором этаже были не прямо одно против другого, а
наискось. Я тоже говорил с Каллиопой Несторовной, после того, как допрашивал
ее Штрок, но через десять минут махнул рукой и попрощался: не хватило духу
мучить молодую женщину, у которой и на третий день еще губы и руки тряслись
от ужаса. -- За то охотно и говорливо описывала горничная Гапка: хотя ее при
этом не было, но из ее рассказов мне выяснилась обстановка, в которой это
все произошло; и сам я тоже вспомнил одну часть той обстановки -- в прошлый,
первый мой приезд Маруся в той же кухне и в том же "балахоне" кипятила
молоко для первого их ребенка. Словом, я всю картину вижу перед собой, и
уверен, что правильно. Только не хочется; покороче...
Надо прежде объяснить про устройство их домика. В нижнем этаже была
аптека, при ней склад, и еще одна большая комната, из которой они сделали
столовую и там же принимали гостей. Наверху была спальня, детская, и две
маленькие комнатки: одна -- Марусина "норка", другая -- где тогда поместили
меня, и еще кухня довольно просторная, даже с полатями, по местному
"антресоли", где спала Гапка. Окно из кухни и было то окно, что наискось
против окна Каллиопы Несторовны; а дверь выходила в коридор, и в коридоре, у
самой двери, стоял деревянный сундук, вышиною несколько ниже обыкновенного
стула; и стоял он именно у той стороны кухонной двери, где ручка.
По утрам теперь Маруся, в хорошую погоду, отправляла Гапку покатать
полугодовалого младшего; старший, которому шел третий год, уже проявлял
характер. Очень активный ребенок был этот Мишка -- да простит ему Бог это
роковое качество. Он давно уже научился без помощи карабкаться по деревянной
лесенке на второй этаж. Главное же его достижение было -- собственноручно
отворять дверь на кухню. С пола дотянуться до ручки он, конечно, не мог, но
придумал ухищрение: взбирался на тот сундук, оттуда, пыхтя, обеими руками
нажимал ручку, дверь открывалась, он слезал с сундука, входил и заявлял:
-- Бачь, мамо (или: бачь, Гапко) -- я вiдчиныла!
Когда Маруся на кухне возилась с керосинкой, и при этом находился
Мишка, ему запрещалось проникать в мамин угол, чтобы не обжегся, и он это
правило научился строго соблюдать: играл тогда у двери, по большей части
открытой (чтобы мог выбегать на коридор, не заставляя Марусю отпирать -- с
этой стороны сундука не было): строил дворцы из кирпичей кухонного мыла, или
скакал верхом на палке половой щетки.
Тот день был жаркий, но ветреный, окна были открыты "настежь. Самойло
не было, ученик дремал в аптеке, Галка ушла покатать Жоржика в колясочке,
старший ребенок был в саду, а Маруся поднялась в кухню. Там она так
поместилась у окна -- сбоку, возле самой плиты -- чтобы видеть Каллиопу
Несторовну, которая что то шила, сидя у себя на подоконнике; и они оживленно
переговаривались через неширокую тихую улицу. А на плите стояла керосиновая
машинка.
Штроку гречанка рассказала, что она в то утро ("в сотый раз") "смеялась
с Марьи Игнатьевны", зачем та непременно три раза кипятит детское молоко. "И
наговорили вам в гимназии за эту стерилизацию! чепуха -- как же мы с вами
без этой церемонии такие мамочки-булочки выросли?". А Маруся, тоже в сотый
раз отвечала формулой из какого то детского фокуса с .игральными картами:
"наука имеет много гитик" -- нет такого слова "гитика", это для фокуса -- но
смысл был тот, что доктора так велят, они ученые, и не нам с вами против них
спорить.
Потом что то завозилось в коридоре, послышалось, вероятно, знакомое
пыхтение, дверь отворилась, ввалился Мишка; объявил, вероятно, "вiдчиныла!",
и, как полагалось по закону, не переступая черты маминого угла, где горит
огонь, занялся своими делами у порога. Его Каллиопа Несторовна тоже все
время видела со своего подоконника: запомнила, и рассказала Штроку, что --
покуда совершалось второе кипячение -- он гарцовал на половой щетке, а
потом, когда надоело, бросил щетку на пол, широкой мохнатой перекладиной к
себе, а концом палки, поперек кухни, к Марусе. Дверь он оставил открытой, а
день был ветреный.
Молоко стало подыматься, Маруся сняла кастрюлю, остудила молоко
(совсем? или немного? не знаю, как это приказано в науке), и опять поставила
на огонь, повернувшись спиною к машинке, оперлась плечом об оконный косяк и
продолжала переговариваться с соседкой. И тогда Каллиопе Несторовне вдруг
показалось, что пламя на сквозняке высунуло шальной язычок и лизнуло рукав
Марусиного балахона. Я не знаю, как называется та материя, но одно хорошо
помню -- когда Маруся прильнула и шептала мне на ухо про ту ночь в долине
Лукания: паутина.
Дальше, как передавал Штрок, соседка не умела ничего связно передать:
все путала, описывала раньше такое, что по ходу вещей могло только быть
позже, и наоборот. Но она ясно помнила, что даже крикнуть не успела во
время: так ярко ей сразу представилось, что сейчас должно произойти, что у
нее голос отнялся; и Маруся, очевидно, только по исказившемуся лицу гречанки
поняла, что на ней загорелось платье. Каллиопа Несторовна уверена была, что
Маруся только поняла, а не почувствовала: хотя она быстро повернулась и
отскочила, но по лицу видно было, что ей еще не больно.
И еще за одно ручалась Каллиопа Несторовна: что в ту же самую секунду,
еще прежде, чем начать срывать с себя распашонку, Маруся шарахнулась к
половой щетке, нагнулась, схватила конец палки и "вымела дите в коридор", и
щеткой же захлопнула за ним дверь.
После этого только попыталась она что то сделать со своим платьем; но
уже ничего нельзя было сделать. Каллиопа Несторовна уже нашла свой голос,
уже кричала, и сквозь свой крик услышала, что Маруся стонет: видела, как
она, еще стоя на ногах посреди кухни, извивается и бессмысленно тормошит
руками, хватаясь то за грудь, то за колена. Еще через секунду она что то
начала кричать, но гречанка сама кричала, ничего понять не могла. Кажется,
Маруся подбежала сначалу к окну, может быть, хотела выброситься, но не
посмела, и только потом стала кататься по полу; или сначала упала, потом
вскочила и высунулась в окно -- ничего уж нельзя было разобрать из рассказа
соседки.
Нервно дергая редкие усы и не глядя на меня, Штрок объяснил мне, чего
не видела Каллиопа Несторовна; чего, может быть, никогда и не бывало до тех
пор на земле, и не верю, что еще снова будет: и второй Маруси не будет.
-- Главное вот что: когда ученик взбежал по лестнице, дверь на кухню
оказалась запертой на ключ извнутри; а ключ потом нашли на улице. Понимаете?
Там, за дверью, плачет испуганный Мишка; и там этот проклятый сундук, и
Мишка уже верно лезет на сундук и собирается "вiдчинять". Значит: она
бросается к двери -- или, может .быть, уже ползет к двери на четвереньках --
и поворачивает ключ. Я бы первым делом кинулся вон из кухни, к людям: а она
запирается на ключ, потому что в коридоре Мишка. -- Постойте, это еще не
самое главное. Почему ключ оказался на улице? Ясно. Не только мне и вам, но
всякому человеку в такую минуту прежде всего хочется выбежать. Мадам
Козодой, в конце концов, тоже только человек, ей тоже хочется выбежать; чем
дальше, все больше хочется выбежать, или уже, скажем, выползти. Тут уже даже
не на секунды счет, а на какие то сотые доли; но для нее каждая такая доля
-- целый промежуток, и с каждым промежутком ей становится все яснее: не
выдержу, выбегу! А там Мишка. Ключ у нее, скажем, остался в руке. Или еще
иначе: ключ остался в двери, и вот пришла такая доля секунды, когда рука
сама потянулась к ключу. И тут мадам Козодой говорит сама себе: Нет. Нельзя.
И чтобы не было больше спору, выбрасывает ключ на улицу. Это, должно быть, и
есть то место в рассказе соседки: "подбежала к окну".
Аптекарский ученик был, как полагается в этом сословии, юноша
узкоплечий и тонкорукий и выломать двери не мог. Пока сбежались мещане,
покуда вышибли дверь, прошло много времени. Земский врач объяснил мне
положение с точки зрения огнеупорности различных тканей. Распашонка сама по
себе не такая страшная вещь: ее скоро не стало. Но ночные сорочки Маруся
получила в приданое, Анна Михайловна бережно выбрала самое дорогое полотно:
прочный материал, упрямый, горит медленно. И лифчик был на Марусе, она после
второго ребенка уже боялась за фигуру и с утра его надевала; и лифчик был
тоже хорошего качества.
-- Я видал виды, -- сказал мне земский врач, -- но такой основательной,
добросовестной божьей работы, до каждого волоска на макушке, до каждого
ногтя на ноге -- это мне еще не попадалось.
Маруся умерла часа через три после того, как ее подобрали. Незадолго до
конца прискакал Самойло: услышал, нахмурился, пошел к Марусе, посмотрел, еще
глубже нахмурился; прошел в аптеку, отобрал, что надо, и вернулся к жене
делать примочки или впрыскивания или что вообще полагается.
Врача в то утро куда-то далеко вызвали, он уже Маруси не застал; а у
Самойло я не решился спросить, была ли она при сознании -- так и не знаю. Но
Штрок, человек все же не тонкого такта, спросил его при мне: -- Очень
мучилась мадам Козодой? -- Самойло ему ничего не ответил. Потом, когда
остался со мной наедине, он вдруг сказал отрывисто:
-- Дурак. Мучилась, пока меня не было. Когда я приехал и увидел, в чем
дело, баста: больше не мучилась. Муж фармаколог; "фармаколух", как выражался
Сережа.
"Сни меня"... Я уже это писал: мне по настоящему никогда ничего не
снится, зато я по ночам, сам себя баюкая, иногда сам себе выдумываю сны.
Или, скажем, письма, которых никогда никто мне не писал; напримел, письмо с
того света. Оно мне столько раз "снилось", что и сейчас помню каждое слово
наизусть; странно -- не все подробности совпадают с реставрацией коллеги
Штрока, и почему то у гречанки отчество не то. Вообще глупо, что мне хочется
приложить это "письмо", но все-таки приложу; не целиком, только последние
страницы:
"Первое, что я заметила, это испуг Каллиопы Стаматиевны: у нее лицо
перекосилось, голос оборвался, вытянула ко мне руку с указательным пальцем,
перегнулась, чуть в окно не вывалилась; она еще совсем молоденькая девочка.
Я оглянулась на себя: вижу -- левый рукав у меня зацепился за гвоздь на
шкафчике, и огонек от спиртовки его облизывает. Я, знаете, прежде всего
подумала: вот теперь Самойло скажет: "ага? я тебе что говорил? не смей
ходить на кухню в балахоне из паутины!". И начала отцеплять рукав от
гвоздика; глупая такая аккуратность -- надо было просто рвануть и отскочить:
впрочем, может быть, уже и не помогло бы, очень это все быстро сделалось.
Словом... да Бог с ним, я описывать не умею.
"Почему я подумала тут именно о щетке, сама не знаю;
только я поклясться готова, что подумала о щетке, а вовсе не о Мишке; и
с ключом то же самое. Я бы на суде присягнула, что даже мысли о Мишке у меня
во все время в голове не было; правду сказать -- не до Мишки мне тогда было;
это страшно неприятная, совершенно сумасшедшая вещь.
"Милый, вы только не подумайте, будто я жеманюсь или рисуюсь -- что
говорю "неприятно", вместо "больно". Конечно, это называется по настоящему
"больно", и то еще не то слово. Но вам никогда разве не приходило в голову,
какое это противное, унизительное понятие -- "боль"? Самое пассивное
переживание на свете, рабское какое то: ты -- ничего, тебя не спрашивают,
над тобой кто то измывается. Я и родов больше всего из за этого не любила,
из за обидности, из за надругательства. Хамом становишься от этого, скотиной
без стыда, пусть все глазеют, пусть весь городишко слышит... не надо, милый,
не расспрашивайте про это. Нехорошо было. Я к крану бросилась, но он не
поворачивался; Каллиопа Стаматиевна что то кричала, я тоже... Нехорошо.
"Одно странно: как медленно догадывается человек, что случилось
бесповоротное. Я думаю, так бывает, когда начинается у тебя злющая
какая-нибудь болезнь -- рак, что ли: "неужели именно у меня? Не может
быть!". Уже давно знаешь, а не верится. Тут "медленно" не подходит --
вероятно, и шестидесяти секунд не понадобилось Господу Богу на всю эту шутку
с Марусей; а все-таки медленно. Уж космы у меня шипели, и уже всюду было --
ну, "больно" -- а я все еще, кажется, сама над собою хохотала: точно борщом
залила новое платье, стряхиваю капли и рассчитываю, что, может быть, еще
удастся вычистить пятна кипятком и пойти в гости, и все сейчас станет
по-прежнему -- правда, все станет по-прежнему? Самойло, Мишка, мама, все
ангелы небесные, скажите, что это ничего, это только так, сейчас все
окажется по-прежнему...
"Словом, -- прошло, и не стоит об этом говорить.
"Об одном, пожалуй, стоит. Я, конечно, понимаю, у людей все это
называется "героическая женщина"... Первое слово совсем тут не при чем, вся
суть во втором слове. Я, сидя там в Овидиополе, много думала о нас,
женщинах. Я вам писала: были такие минуты, когда за один леденец, и даже
леденца не нужно, могла бы я стать неверной женою; просто так, ни с того, ни
с сего; и после того отряхнулась бы, напудрила нос и побежала бы кипятить
молоко, безо всяких угрызений. Знаете что? Не подумайте только, что я
кощунствую: мама для меня святая. Но если бы мне доказали, что и у мамы был
в жизни такой леденец, я бы не очень огорчилась; кажется и не очень
удивилась бы. Не в этом суть, верные, неверные, серьезные, развратные... Мы,
как это сказать -- мы все "лойяльные". Все: мама, и маркушина Валентоночка,
и Лика по своему -- Лика, если не к людям, так, скажем, к идолу своему
какому то, которого еще даже на свете нет. Все такие, кого я знаю; вероятно,
даже Нюра и Нюта, если бы с ними познакомиться (я их, собственно, не знала
-- как было разговориться по настоящему, когда они всегда вдвоем?). Что
такое лойяльность, я определить не умею, только одно говорю вам наверное:
если когда-нибудь, милый, все у тебя на свете треснет и обвалится, и все
изменят и сбегут, и не на что будет опереться -- найди тогда женщину и
обопрись. Я не хвастаюсь, сохрани Боже, я не важничаю за наше сословие:
только это правда.
"Вот и все, друг мой. Не жалейте, что вы тогда приехали по моему же
вызову, а я вас не дождалась. Это лучше -- я тогда была в таком настроении,
что, может быть, не сдержала бы слова, которое вам дала в письме, и нам
теперь обоим было бы не по себе. Так лучше; прощай, милый".
Полгорода было на похоронах: шесть колясок с венками, и почти целая
страница объявлений в газете. Никто не знал и не думал, что столько народу
слыхало о Марусе. Наш редактор, который никогда ее в глаза не видал, и
вообще любил, чтобы его считали сухим человеком, тоже пошел, а потом написал
в газете (хотя уже давно перестал сам писать): "словно даже совсем чужие
люди пришли, не только отдать поклон величию самопожертвования, но и просто
попрощаться с прекрасным воплощением юности, прелести, всего чистого и
хорошего в жизни".
Первый брел за гробом никчемный, растерянный старичок, с лицом
давнишнего нищего; но, все-таки, одет был так, как полагалось в таких
случаях по правилам его поколения, воспитавшего себя на почтенной и
степенной немецкой литературе -- цилиндр и черные перчатки. Абрам Моисеевич,
тоже в цилиндре, поддерживал его под руку. Анна Михайловна лежала дома,
доктор не велел вставать, и она сама, говорят, не порывалась пойти, вообще
ничего никому не сказала. Самойло я почему то на похоронах не помню, хотя
он, конечно, был. Помню Торика: шел бледный и строгий, и незаметно, но точно
следил за порядком. Перевозку тела и все прочее устроил он, ездил в братство
отвоевать лучшее место на кладбище и лучшего кантора, и погребальщики все
делали по его мановениям.
"...И приюти ее в высотах, где обитают святые и чистые, -- светлые, как
сияние небес...".
Хорошие у нас есть молитвы. Но другая была странная, даже
бессмысленная, где нет ни слова об утрате, а есть только безропотная хвала
обидчику-Богу. Слушая, как бормочет ее не то Самойло, не то Игнац
Альбертович, я кусал губы от бешенства и думал про себя:
-- Камнем бы я запустил в тебя, Господи, если бы ты не запрятался так
далеко.
С кладбища я ехал на извозчике с Абрамом Моисеевичем; о чем мы сначала
говорили, не помню; только одно меня поразило. Я ему сказал, думая, что это
его порадует:
-- Вы правы, Торик -- золото. Надежный человек.
Вдруг я заметил, что у него лицо передернулось. Он и так все время был
искренно подавлен, что называется убит, но держался: тут я почувствовал, что
старик вот-вот разрыдается или опрокинется в беспамятстве. Но он взял себя в
руки, и только проворчал совершенно неожиданное слово:
-- Гладкая гадюка, склизкая...
Хоть не до Торика мне было и не до их размолвок, но я вытаращил глаза
при таком отзыве о стародавнем его любимце. Но расспрашивать не решился,
кажется; или, может быть, спросил, в чем дело, но он не ответил.
На другой день, или третий, я пошел к старикам. К Анне Михайловне меня
не пустила деловитая сестра, приглашенная из частной лечебницы; а Игнац
Альбертович сидел, как полагается, на полу в гостиной, небритый по траурному
уставу, и читал по уставу книгу Иова, из толстой Библии с русским переводом.
Принял меня спокойно, говорил тихо; не о Марусе, а главным образом об Иове.
-- Замечательная книга. Конечно, только теперь ее понимаешь, как
следует. Главное в ней -- это вот какой вопрос: если так случилось, что
делать человеку -- бунтовать, звать Бога на суд чести, или вытянуться
по-солдатски в струнку, руки по швам, или под козырек, и гаркнуть на весь
мир: рады стараться, ваше высокоблагородие! И вопрос, по моему, тут разобран
не с точки зрения справедливости или кривды, .а совсем иначе: с точки зрения
гордости. Человеческой гордости, Иова (он, конечно, произносил "Иова"), моей
и вашей. Понимаете: что гордее -- объявить восстание или под козырек? Как вы
думаете?
Никак я, конечно, не "думал", никогда не читал Иова; ничего не ответил,
он ответил сам:
-- И вот здесь выходит так: гордее -- под козырек. Почему? Потому что
ведь так: если ты бунтуешься -- значит, вышла бессмыслица, вроде как проехал
биндюг с навозом и раздавил ни за что, ни про что улитку или таракашку;
значит, все твое страдание -- так себе, случайная ерунда, и ты сам
таракашка.
Я начал понимать и стал больше вслушиваться, и вспомнил, что когда то
мне эти люди с зерновой биржи и вправду казались большими жизнеиспытателями,
и школа "делов" большою
школой.
-- Но если только "Йов" нашел в себе силу гаркнуть "рады стараться"
(только это очень трудно; очень трудно) -- тогда совсем другое дело. Тогда,
значит, все идет по плану, никакого случайного биндюга не было. Все по
плану: было сотворение мира, был потоп, ну, и разрушение храма, крестовые
походы, Ермак завоевал Сибирь, Бастилия и так далее, вся история, и в том
числе несчастье в доме у господина Иова. Не биндюг, значит, а по плану; тоже
нота в большой опере -- не такая важная нота, как Наполеон, но тоже нота,
нарочно вписанная тем же самым Верди. Значит, вовсе ты не улитка, а ты --
мученик оперы, без тебя хор был бы неполный; ты персона, сотрудник этого
самого Господа; отдаешь честь под козырек не только ему, но и себе, т. е. не
все это здесь этими словами написано, но весь спор идет именно об этом.
Замечательная книга.
Помолчав, он заговорил именно о той молитве, которая меня на кладбище
разозлила:
-- Вот возьмите этот самый Кадиш -- заупокойная молитва, самая главная,
на всех поминках ее говорят, и по нашему закону никакой другой не нужно. А
содержание -- "Да возвеличится и да будет свято имя божие" и больше ничего.
Не только о покойнице ничего, но просто никакого намека на все происшествие;
ну хотя бы "покоряюсь Твоей воле" -- даже этого нет. Вообще, если хотите,
дурацкий набор слов: "благословляю, прославляю, превозношу" -- еще что то
пять комплиментов того же сорта: совсем похоже, как "Бейреш" -- Борис
Маврикиевич, знаете -- писал Анне Михайловне из Италии: "дражайшая,
любезнейшая, пресловутая Анюточка...". Кажется, будь у Господа желудок, его
бы стошнило от таких книксенов. А на самом деле вовсе не чепуха: это он
нарочно, это он черта дразнит.
-- Кто "он", почему черта?
-- Он -- кто сочинил молитву: рабби Акива, если верно помню; как раз
очень умный человек. Рассуждал при этом так: вот, стряслась беда, стоит
этакий осиротелый второй гильдии купец перед ямой, все пропало и больше
незачем жить. Стоит перед ямой и мысленно предъявляет Богу счег за потраву и
убытки; такой сердитый стоит -- вот-вот подымет оба кулака и начнет
ругаться, прямо в небо. А за соседним памятником сидит на корточках Сатана и
ждет именно этого: чтобы начал ругаться. Чтобы признал, открыто и раз
навсегда: ты, Господи, извини за выражение, просто самодур и хам, и еще
бессердечный в придачу, убирайся вон, знать тебя не хочу! Сатана только
этого и ждет: как только дождется -- сейчас снимет копию, полетит в рай и
доложит Богу: "ну что, получил в ухо? И еще от кого: от еврея -- от твоего
собственного уполномоченного и прокуриста! Подавай в отставку, старик:
теперь я директор". Вот чего ждет Сатана; и тот второгильдейский купец, стоя
над могилой, это все чувствует. Чувствует и спрашивает себя: неужели
так-таки и порадовать Сатану? сделать черта на свете хозяином? Нет, уж это
извините. Я ему покажу. -- И тут он, понимаете, начинает ставить Господу
пятерки с плюсом, одну за другою; без всякого смысла -- на что смысл? лишь
бы черта обидеть, унизить, уничтожить до конца. Иными словами: ты, Сатана,
не вмешивайся. Какие у меня там с Богом счеты -- это наше дело, мы с ним
давно компаньоны, как-нибудь поладим; а ты не суйся. -- Та же мысль,
понимаете, что у "Йова": еврей с Богом компаньоны.
Анну Михайловну я, несомненно, после того видел, и не раз; но странно
-- ничего об этом не помню. Собственно еще раньше не помню: с самого
несчастья с Сережей. Вероятно, так устроена у меня память. Когда то Лика,
еще подростком -- в единственном разговоре, которым меня в те годы удостоила
-- объяснила мне разницу между памятью белой и черной: и сама гордилась тем,
что у нее память "черная" -- удерживает только горькое. У меня, если так,
"белая": очень тяжелые впечатления она выбрасывает, начисто и без следа
вылущивает, и не раз я это замечал. Хвастать нечем -- пожалуй, в своем роде
права была Лика, считая свой сорт высшим сортом.
Ничего не помню о моей Ниобее со времени этих двух ударов; даже того,
как наладились у нее отношения со слепым; даже того, очень ли она хваталась
за последнего Торика -- в те короткие месяц или два, что еще подарил ей
Торик.
Торик выждал корректно семь дней, пока отец сидел на полу. На восьмой
день Игнац Альбертович принял ванну, выбрился и пошел на биржу; а Торик
созвонился со мною в редакции, что будет у меня вечером по личному и
существенному делу.
Его-то я хорошо помню, особенно в тот вечер. Я, кажется, несколько раз
написал о нем: безупречный, или "безукоризненный": право, не в насмешку. Я
действительно больше никогда не встречал такого человека: люби его, не люби
его, придраться не к чему; даже к безупречности этой нельзя было придраться
-- она была не деланная, и ничуть он ее не подчеркивал, просто натура такая
ряшливая, без сучка и задоринки, неспособная ни передернуть карту даже
случайно, ни обмолвиться неправдой, ни притронуться к чужому добру, ни даже
просто в чем бы то ни было внешне или внутренне переборщить.
А пришел он сообщить мне большую новость, и просить, чтобы я взял на
себя подготовить стариков.
-- Вы, из нашего круга, второй, которому я это рассказываю. Первый был
Абрам Моисеевич: я, во-первых, именно пред ним считал себя нравственно
обязанным -- думаю, вы понимаете причины; кроме того, думал его просить
переговорить с папой;
но он это очень тяжело принял, так что я уж не решился.
Я молчал, глядя на ковер. Помолчал и он, потом вдруг заговорил:
-- Мне бы хотелось, чтобы вы меня поняли: не "оправдали", но поняли.
Если согласны выслушать, я постараюсь изложить свою позицию совершенно
точно, не передвигая ни одного центра тяжести: это нетрудно, я все это
продумал давно и со всех сторон: еще с пятого класса гимназии. Ничего не
имеете против?
Я вспомнил, что это было, приблизительно, в его пятом классе гимназии,
когда я застал его за учебником еврейского языка, или за "Историей" Греца,
или в этом роде. Основательный юноша, добросовестный: если что надо
"продумать", начинает с изучения первоисточников. И столько лет вынашивает в
уме такую контрабанду -- и никто не заметил, даже друг его Абрам Моисеевич,
мудрый как змий, насквозь видящий каждого человека, издали знающий, что
творится в маленьком счастливом домике где то в Овидиополе. Я сказал, не
глядя на него -- Слушаю.
-- Начну с одной mise au point: я не хотел бы создать впечатление,
будто мне это решение, что называется, "дорого обошлось", что пришлось
"бороться" с самим собою. Эмоционального отношения к этой категории вопросов
у меня нет, с самого раннего детства было только отношение рациональное. Но
именно в рациональном подходе нужна особая осторожность; и рациональный
подход, по крайней мере для меня, совершенно не освобождает человека от
этической повинности быть чистоплотным. Например: мне кажется, попади я в
кораблекрушение, никогда бы не соскочил в лодку, пока не усадили бы всех
женщин и детей и стариков и калек; по крайней мере, надеюсь, что хватило бы
силы не соскочить. -- Но другое дело -- корабль, с которого уже давно все
поскакали, или внутренне решили соскочить; притом спасательных лодок вокруг
-- сколько угодно, места для всех хватит; да и корабль не тонет, а просто
неудобный корабль, грязный и тесный, и никуда не идет, а всем надоел.
Я пожал плечами:
-- Откуда вы знаете? Вы здесь в Одессе никогда и не видали настоящего
гетто.
-- Нет, видел: с отрочества и до последних лет, как почти все мои
товарищи, готовил на аттестат зрелости экстернов -- "выходцы пинского
болота", как их называла Маруся. Это, мне кажется, очень верный способ для
изучения данной среды: по образцам; может быть, гораздо более точный способ,
чем разглядывать эту среду извнутри, когда из за гвалта и толкотни ничего не
разберешь. Толковый химик в лаборатории, повозившись над вытяжкой крови
пациента, больше узнает о болезни, чем доктор, который лечит живого человека
с капризами, припадками и промежутками. И мой диагноз установлен
бесповоротно: разложение. Еврейский народ разбредается куда попало, и назад
к самому себе больше не вернется.
-- А сионизм? или даже Бунд?
-- Бунд и сионизм, если рассуждать клинически, одно и то же. Бунд --
приготовительный класс, или, скажем, городское училище: подводит к сионизму;
кажется, Плеханов это сказал о Бунде -- "сионисты, боящиеся морской качки".
А сионизм -- это уже вроде полной гимназии: готовит в университет. А
"университет", куда все они подсознательно идут, и придут, называется
ассимиляция. Постепенная, неохотная, безрадостная, по большей части даже
сразу невыгодная, но неизбежная и бесповоротная, с крещением, смешанными
браками и полной ликвидацией расы. Другого пути нет. Бунд цепляется за
жаргон; говорят, замечательнейший язык на свете -- я его мало знаю, но
экстерны мои, например, цитировали уайтчепельское слово "бойчикль" --
хлопчик, что ли -- ведь это tour de force: элементы трех языков в одном
коротеньком слове, и звучит естественно, идеальная амальгама; но через 25
лет никакого жаргона не будет. И Сиона никакого не будет; а останется только
одно -- желание "быть, как все народы".
Я мог задать еще двадцать вопросов: -- а религия? а антисемитизм? -- но
у него, должно быть, на все готовы были непромокаемые ответы; я промолчал,
он продолжал:
-- Лучшая школа для всего этого, по моему, наша семья: дети, мы пятеро.
Каждый по своему ценная личность, только без догмата: и смотрите, что вышло.
Отдельно о каждом из нас говорить не хочу; только хочу защититься, чтобы вы
не подумали, будто я Марусе не знаю цены. Хорошо знаю: стоило, тысячу раз
стоило Господу Богу сотворить мир со всеми его мерзостями, и стоило целому
народу для того протащиться сквозь строй мук и разложения, если за эту цену
может раз в поколение расцвести на земле такой золотой василек; существо,
одержимое одной заботой -- всех приголубить, всем дать уют. Но вы сами
знаете, что и Маруся -- цветок декаданса.
Я помолчал и спросил:
-- Чего торопитесь? Даст Бог, скоро помрут родители; а у вас времени
много впереди.
-- Не знаю, много ли времени. Говорят, министерство внутренних дел
торгуется теперь с синодом, хочет ввести новое законодательство, которое всю
эту процедуру очень усложнит, во всяком случае отсрочит получение полных
прав. Но не в этом дело, поверьте. Я по натуре строитель, человек плана и
распорядка; план у меня большой, на долгую дистанцию; в этом году я кончаю
университет, надо начать строиться. Не могу топтаться на месте -- да еще
выжидать с нетерпением, скоро ли похороню маму и отца и Абрама Моисеевича.
-- Он причем?
-- Он, как раз, самая у меня болезненная точка; оттого я ему первому и
сказал. Дело в том, что он давно составил завещание в мою пользу; и жирное.
Потому что не знал: если бы знал, скорее на призрение бездомных собак
оставил бы свои деньги, как тот сумасшедший грек Ралли (это иждивением Ралли
по всему городу у акаций стоят зеленые жестянки с водою, с надписью "для
собак"). Что же -- промолчать? обокрасть человека? Это все не в моем вкусе:
я пошел к нему и сказал, чтобы дать ему время переписать завещание;
вероятно, уже переписано.
Тут я посмотрел на него, встретился глазами -- он, по-видимому, и все
время не прятал от меня взгляда. Прямой взгляд, глаза порядочного человека,
которому нечего скрывать; и ни тени рисовки -- рассказывает мне, в сущности,
об очень благородном и тонком своем поступке, но просто, как о вещи сама
собою понятной. Одет хорошо, без Сережиной щеголеватости, но хорошо;
"standesgemaess", как полагается молодому интеллигенту, который подает
надежды и будет персоной, но пока еще ничего особенного не совершил, и так и
знает. Ни кольца, ни брелоков, в сером галстуке булавка с матовой головкой
-- вероятно, не дешевая, но маленькая и строго-матовая.
-- А церковь выбрали?
-- Выбрал. Думал сначала о том армянском иерее в Аккермане, который
очень упростил церемонию; но слишком уж это было бы экзотично. Сделаю, как
все, поеду в Выборг к тамошнему пастору Пирхо; я уже списался.
129
Вероятно, уж никогда не видать мне Одессы. Жаль, я ее люблю. К России
был равнодушен даже в молодости: помню, всегда нервничал от радости, уезжая
заграницу, и возвращался нехотя. Но Одесса -- другое дело: подъезжая к
Раздельной, я уже начинал ликующе волноваться. Если бы сегодня подъезжал,
вероятно и руки бы дрожали. Я не к одной только России равнодушен, я вообще
ни к одной стране по настоящему не "привязан"; в Рим когда то был влюблен, и
долго, но и это прошло. Одесса другое дело, не прошло и не пройдет.
Если бы можно было, я бы хотел подъехать не через Раздельную, а на
пароходе; летом, конечно, и рано утром. Встал бы перед рассветом, когда еще
не потух маяк на Большом фонтане; и один одинешенек на палубе смотрел бы на
берег. Берег еще сначала был бы в тумане, но к семи часам уже стали бы видны
те две краски -- красно-желтая глина и чуть-чуть сероватая зелень. Я бы
старался отличить по памяти селения: Большой Фонтан, Средний, Аркадия,
Малый; потом Ланжерон, а за ним парк -- кажется, с моря видна издалека
черная колонна Александра II-го. То есть, ее, вероятно, теперь уже сняли, но
я говорю о старой Одессе.
Потом начинают вырисовываться детали порта. Это брекватор, а это
волнорез (никто из горожан не знал разницы, а я знал); Карантин и за ним
кусочек эстокады -- мы на Карантин и плывем; а те молы, что справа,
поменьше, те для своих отечественных пароходиков, и еще больше для парусных
дубков, и просто шаланд и баркасов: Платоновский мол, Андросовский, еще
какой то. В детстве моем еще лесом, бывало, торчали трубы и мачты во всех
гаванях, когда Одесса была царицей; потом стало жиже, много жиже, но я хочу
так, как было в детстве: лес, и повсюду уже перекликаются матросы,
лодочники, грузчики, и если бы можно было услышать, услышал бы лучшую песню
человечества: сто языков.
Помню ли еще здания, которые видны высоко на горе, подъезжая с моря?
Дума была белая, одноэтажная, простого греческого рисунка; на днях я видел в
американском Ричмонде небогатый, уездный тамошний Капитолий, немного похожий
на нашу думу, и час после того ходил сам не свой. Направо стройная линия
дворцов вдоль бульвара -- не помню, видать ли их с моря за кленами бульвара;
но последний оправа наверное видать, Воронцовский дворец с полукруглым
портиком над сплошной зеленью обрыва. И лестница, шириной в широкую улицу,
двести низеньких барских ступеней; второй такой нет, кажется, на свете, а
если скажут, где есть, не поеду смотреть. И над лестницей каменный Дюк --
протянул руку и тычет в приезжего пальцем: меня звали дю-Плесси де Ришелье
-- помни, со всех концов Европы сколько сошлось народов, чтобы выстроить
один город.
У людей, говорят, самое это имя Одесса -- вроде как потешный анекдот. Я
за это, собственно говоря, не в обиде: конечно, очень уж открывать им свою
тоску не стоит, но за смешливое отношение к моей родине я не в обиде. Может
быть, вправду смешной был город; может быть, оттого смешной, что сам так
охотно смеялся. Десять племен рядом, и все какие, на подбор, живописные
племена, одно курьезнее другого: начали с того, что смеялись друг над
другом, а потом научились смеяться и над собою, и надо всем на свете, даже
над тем, что болит, и даже над тем, что любимо. Постепенно стерли друг о
дружку свои обычаи, отучились принимать чересчур всерьез свои собственные
алтари, постепенно вникли в одну важную тайну мира сего: что твоя святыня у
соседа чепуха, а ведь сосед тоже не вор и не бродяга; может быть, он прав, а
может быть и нет, убиваться не стоит. -- Торик сказал: "разложение". Может
быть, и прав; адвокат, защищавший Ровенского, тоже говорил о распаде, но
прибавил: эпохи распада иногда самые обаятельные эпохи. -- А кто знает:
может быть, и не только обаятельные, но и по своему высокие? Конечно, я в
том лагере, который взбунтовался против распада, не хочу соседей, хочу всех
людей разместить по островам; но -- кто знает? Одно ведь уж наверно
доказанная историческая правда: надо пройти через распад, чтобы добраться до
восстановления. Значит, распад -- вроде тумана при рождении солнца, или
вроде предутреннего сна. Маруся говорила, что сны самые чудесные --
предутренние сны. Чьи эти стихи? "Еще невнятное пророчество рассвета,
смарагд и сердолик, сирень и синева: так мне пригрезились не спетые слова
еще, быть может, не зачатого поэта; певца не созданной Создателем страны,
где музыкой молчат незримые виденья, и чей покров на миг, за миг до
пробужденья, приподымают нам предутренние сны". Боюсь, что стихи мои;
старея, все чаще цитирую себя. Процитирую (во второй раз) еще и это: "Я сын
моей поры -- я в ней люблю все пятна, весь яд ее люблю".
"Потешные"... Вот я бреду по улицам моего города, и на разных углах
встречаюсь с ними опять. Первый налетел на меня вислоухий ротозей с
вытаращенными глазами: я лица его не помню, сто раз уже присягал, что не
помню, но какие же другие могли быть у него глаза, всю жизнь высматривавшие,
где начинается чудо, и во всем видевшие чудо? Англичанин один написал перед
смертью глубокое слово: "Господи, я старик, обошел всю твою землю и не нашел
на ней ничего заурядного". Все чудо, каждая пылинка чудо, и Марко это знал;
оттого и глаза должны были быть вечно вытаращенные. И какие могли быть, если
не растопыренные, у этого человека уши, чтобы всю жизнь вслушиваться, не
зовет ли кто -- все равно, Грузия или Россия, с реки или с набережной,
утопая в проруби или спьяна? Зовут и баста: надо пойти.
На следующем углу опять стоит молодцеватый студент в папахе и "правит
движением"; а сам пьян. Зачем правит движением? Так: взбрело на ум,
подвернулся угол без городового, а извозчиков со всех сторон масса. Если бы
чуть иначе сложились случайности его жизни, и подвернулось бы племя в
Африке, вчера похоронившее черного царька, или шайка контрабандистов в этой
самой Одессе, семьдесят лет тому назад; или партия в литовском подполье, все
равно какая -- мог бы и там, ни с того, ни с сего, вдруг стать на минуту
правителем; или даже навсегда, потому что, если ты рожден королевичем, то уж
иногда нелегко выкарабкаться из под мантии, как она тебе ни надоела. Что
такое "рожден королевичем", это давно известно: это ребенок, которого
поцеловала фея в колыбели. В день рождения Сережи большая была суматоха в
замке у фей, всех вызвали на службу, всех до одной; всех добрых фей, только
добрых, ни одной злой ведьмы к нему не пустили; каждая принесла подарок,
которого хватило бы на жизнь богатырю из богатырей, богатырю духа или тела;
только фей было слишком много.
На третьем углу, не благоволя меня заметить, прошла, брезгливо
сторонясь, холодная синеглазая красавица в наряде богатой и утонченной
содержанки -- а я знаю, что под бархатом на ней жесткая власяница, и еще
пояс из колючей проволоки. Если бы царапнуть ее и попробовать языком вкус
кровинки -- обожжет купоросом. Вся цельная страстность самой неукротимой
расы скопилась в этой крови; каждая фибра души -- металл; Бог ее знает что
за металл и в каких пропастях лежат его залежи, но металл сотой пробы. Я ее
в последний раз видел в ресторации "Вена", но на самом деле живет она
подвижницей в скиту, истязая себя во славу такого Христа, какого и хлысты
еще не придумали: Христа-ненавистника; каждый псалом начинается со слова
"проклинаю", и молиться полагается сквозь зубы... -- Лет десять назад я
встретил в Париже знакомую, которую долго продержали на Лубянке. Она мне
рассказала, что одно время с ней была в камере молодая или моложавая
женщина, брюнетка с синими глазами, совершенно греческий профиль -- нос и
лоб одна линия. Эта вторая узница страшно убивалась не за себя, а за мужа,
который попался серьезно, и раз ночью, сквозь сухие рыдания, нашептала моей
знакомой на ухо всю правду про этого мужа: действительно, серьезно попался.
У моей знакомой тоже был тогда муж, арестованный еще раньше: в ту ночь она
тоже расплакалась и тоже расшепталась. На утро синеглазую "наседку" вызвали,
и больше она не вернулась; мою знакомую скоро выпустили и, отпуская, указали
адрес, где можно получить вещи и документы, оставшиеся от ее мужа. -- Я
спросил: -- А ногти были обкусанные, не помните? -- но она не заметила.
Торика я ни на каком углу не встречу: "не наш", сказала Маруся.
С Марусей не на улице будет у меня свидание, мы сговорились встретиться
у меня в Лукании. Но по дороге я проеду мимо их прежнего дома; не посмею
позвонить и подняться, только сниму шляпу и проеду мимо. Звонкая мостовая
покрыта соломой, чтобы колеса не грохотали, чтобы тихо было вокруг бойни
божией, бессмысленной и беспричинной, и вокруг бездонной и бесконечной боли.
Наверху, во втором этаже, спальня убрана по милой наивной моде fin de
siècle; с подушки два сухих глаза в упор глядят на комод, на комоде
пять карточек, все малыши в коротеньких юбочках или в штанишках до колен, и
в каждой карточке, посередине, насквозь торчит ржавый нож.
А над Луканией опять будет полумесяц, пахнет отцветающими цветами,
слышится только что отзвучавшая музыка мелодий, которых давно уже нигде не
играют; и опять все будет, как тогда в нашу безбрачную ночь, только говорить
надо будет не словами, а думами. Я буду думать о том, какое чудное слово
"ласка". Все, что есть на свете хорошего, все ведь это ласка: свет луны,
морской плеск и шелест ветвей, запах цветов или музыка -- все ласка. И Бог,
если добраться до него, растолкать, разбудить, разбранить последними словами
за все, что натворил, а потом помириться и прижать лицо к его коленям, --
он, вероятно, тоже ласка. А лучшая и светлейшая ласка называется женщина.
Потешный был город; но и смех -- тоже ласка. Впрочем, вероятно, той
Одессы уж давно нет и в помине, и нечего жалеть, что я туда не попаду; и
вообще повесть кончена.
Last-modified: Sat, 26 May 2001 16:17:44 GMT
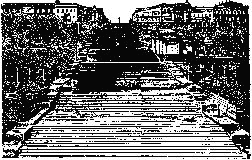
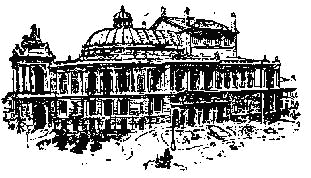 В первый раз я увидел г-жу Мильгром и ее старшую дочь на первом
представлении "Моны Ванны" в городском театре. Они сидели в ложе бенуара
неподалеку от моего кресла; в ложе было еще трое, но из другой семьи. Я их
заметил по причине и лестной, и очень нелестной для моего самолюбия.
Началось с того, что сидевший рядом со мною молодой коллега по газете,
бытописатель босяков и порта, сказал мне под шум наполнявшегося зала: --
Посмотри вправо, на ту рыжую евреечку в третьей ложе: как котенок в муфте!
-- Ему иногда прекрасно удавались сравнения: барышня в самом деле
выглядывала из своей пушистой ярко-красной прически, как кошечка из мехового
кольца на конфетной коробке. В то же время я увидел, что дама показала
девушке на меня и что то сказала, видно мою газетную кличку, а дочь сделала
большие глаза, недоверчиво пожала плечами и ответила (я это ясно видел по ее
губам): -- Неужели? не может быть!
Во втором антракте я пошел на галерку повидаться с приятелями
студентами. Важный институт была в нашем городском театре галерка: царство
студентов; боковые сиденья, кажется, чуть ли не только им и выдавались.
Поэтому всегда там особо дежурил околоточный надзиратель, всегда
какой-нибудь благообразный богатырь с двумя бородами на груди, как у
генерала, и в резерве у него имелись городовые. Когда студенты буянили
(например, когда старый Фигнер пустил петуха на высокой ноте в "Гугенотах",
и ему по этому поводу кстати еще припомнили небратское отношение к сестре,
сидевшей в Шлиссельбурге), -- появлялись городовые и выводили студентов за
локти, а надзиратель шагал позади и почтительно приговаривал: Пожалуйте, г.
студент, как же так можно...
В этот вечер никто не буянил. Газеты уже две недели готовили народ к
постановке "Моны Ванны"; не помню как, но несомненно вложили и в эту пьесу
некий революционный смысл (тогда выражались "освободительный"; все в те годы
преломлялось, за или против, чрез освободительную призму, даже пискливый
срыв голоса у тенора, именовавшегося солистом его величества). Представление
оправдало все ожидания. Героиню играла актриса, в которую все мы тогда были
просто влюблены: половина барышень в городе подражали ее ласково-унылому
голосу и подавали знакомым руку не сгибая, ладонью вниз, как она. "Фойе"
галерки, обычно в антрактах похожее на аллею бульвара, где тянулись
параллельно одна другой две тесные реки гуляющих, теперь напоминало форум:
всюду кучки, и в каждой кучке спор об одном и том же -- мыслимая ли вещь,
чтобы Принцивалле просидел с Моной Ванной, в таком наряде, целую ночь и не
протянул к ней даже руки?
Об этом шумели студенты и в той группе, где я нашел своих приятелей;
сквозь их весьма повышенные тоны я слышал, что и в соседней толпе, особенно
многолюдной, кипятились о том же. Вдруг я заметил, что в центре там стояла
та рыжая барышня. На вид ей было лет девятнадцать. Она была невысокого
роста, но сложена прекрасно по сдобному вкусу того полнокровного времени; на
ней был, конечно, тесный корсет с талией и боками, но, по-видимому, без
"чашек", что в среднем кругу, как мне говорили, считалось новшеством
нескромным; и рукава буфами не доходили даже до локтей, и хотя воротник
платья по-монашески подпирал ей горло, под воротничком спереди все-таки был
вырез вершка в полтора, тоже по тогдашнему дерзость. В довершение этого
внешнего впечатления, до меня донеслись такие отрывки разговора:
-- Но мыслимо ли, -- горячился студент, -- чтобы Принцивалле...
-- Ужас! -- воскликнула рыжая барышня, -- я бы на месте Моны Ванны
никогда этого не допустила. Такой балда!
Окружающие засмеялись, а один из них совсем заликовал:
-- Вы прелесть, Маруся, всегда скажете такую вещь, что расцеловать
хочется...
-- Подумаешь, экое отличие, -- равнодушно отозвалась Маруся, -- и так
скоро не останется на Дерибасовской ни одного студента, который мог бы
похвастаться, что никогда со мной не целовался.
Больше я не расслышал, хотя начал нарочно прислушиваться.
Закончился спектакль совсем величаво. После первого и второго акта
партер и ложи еще выжидали, что скажет высшая законодательница-галерка, и
только по ее сигналу начинали бурно хлопать; но теперь сами своевольно
загремели и ложи, и партер. Несчетное число раз выходил кланяться весь
состав, потом Мона Ванна с Принцивалле, потом Мона Ванна одна в своей черной
бархатной драпировке. Вдруг из грохота рукоплесканий выпала главная нота --
замолчала с обеих сторон боковая галерка: знак, что готовится высшая мера
триумфа, до тех пор едва ли не исключительная привилегия итальянских певиц и
певцов -- студенты ринулись в партер. Остальная публика, не переставая бить
в ладоши, обернулась выжидательно; расписной занавес опять поднялся, но еще
никого не было на сцене -- там тоже ждали высочайшего выхода юности. Через
секунду по всем проходам хлынули вперед синие сюртуки и серые тужурки;
помню, впереди всех по среднему проходу семимильными шагами шел огромный
грузин, с выражением лица деловым, серьезным, грозным, словно на баррикаду.
Подойдя к самому оркестру, он сунул фуражку под мышку и неторопливо, может
быть и не очень громко, с великим уверенным достоинством мерно и отчетливо
трижды ударил в ладоши ("словно султан, вызывающий из-за решетки прекрасную
Зюлейку", было на следующий день сказано в одной из газет). И только тогда,
в ответ на повелительный зов падишаха, вышла из-за кулис прекрасная Зюлейка;
я видел, у нее по настоящему дрожали губы, и спазмы рыданий подкатывались к
горлу; кругом стояла неописуемая буря; два капельдинера выбежали из-за кулис
убирать корзины с цветами, чтобы очистить поле для того, что тогда считалось
дороже цветов: на сцену полетели мятые, выцветшие, с облупленными козырьками
голубые фуражки. Позади студентов стояли пристава и околодочные, каждый, как
на подбор, с двумя бородами на груди; вид у них был благосклонный,
разрешительный, величественно-праздничный, подстать пылающему хрусталю,
позолоте, кариатидам, красному бархату кресел и барьеров, парадным одеждам
хлебных экспортеров и их черноглазых дам, всему великолепию беспечной сытой
Одессы. Я оглянулся на Марусю: она была вне себя от счастья, но смотрела не
на сцену, а на студентов, дергала мать за вздутые у плеч рукава и показывала
ей, по-видимому, своих ближайших друзей в толпе синих сюртуков и серых
тужурок, называя имена; если правильно помню -- до двадцати, а то и больше,
пока не пополз с потолка, тоже величаво, пожарный занавес.
В первый раз я увидел г-жу Мильгром и ее старшую дочь на первом
представлении "Моны Ванны" в городском театре. Они сидели в ложе бенуара
неподалеку от моего кресла; в ложе было еще трое, но из другой семьи. Я их
заметил по причине и лестной, и очень нелестной для моего самолюбия.
Началось с того, что сидевший рядом со мною молодой коллега по газете,
бытописатель босяков и порта, сказал мне под шум наполнявшегося зала: --
Посмотри вправо, на ту рыжую евреечку в третьей ложе: как котенок в муфте!
-- Ему иногда прекрасно удавались сравнения: барышня в самом деле
выглядывала из своей пушистой ярко-красной прически, как кошечка из мехового
кольца на конфетной коробке. В то же время я увидел, что дама показала
девушке на меня и что то сказала, видно мою газетную кличку, а дочь сделала
большие глаза, недоверчиво пожала плечами и ответила (я это ясно видел по ее
губам): -- Неужели? не может быть!
Во втором антракте я пошел на галерку повидаться с приятелями
студентами. Важный институт была в нашем городском театре галерка: царство
студентов; боковые сиденья, кажется, чуть ли не только им и выдавались.
Поэтому всегда там особо дежурил околоточный надзиратель, всегда
какой-нибудь благообразный богатырь с двумя бородами на груди, как у
генерала, и в резерве у него имелись городовые. Когда студенты буянили
(например, когда старый Фигнер пустил петуха на высокой ноте в "Гугенотах",
и ему по этому поводу кстати еще припомнили небратское отношение к сестре,
сидевшей в Шлиссельбурге), -- появлялись городовые и выводили студентов за
локти, а надзиратель шагал позади и почтительно приговаривал: Пожалуйте, г.
студент, как же так можно...
В этот вечер никто не буянил. Газеты уже две недели готовили народ к
постановке "Моны Ванны"; не помню как, но несомненно вложили и в эту пьесу
некий революционный смысл (тогда выражались "освободительный"; все в те годы
преломлялось, за или против, чрез освободительную призму, даже пискливый
срыв голоса у тенора, именовавшегося солистом его величества). Представление
оправдало все ожидания. Героиню играла актриса, в которую все мы тогда были
просто влюблены: половина барышень в городе подражали ее ласково-унылому
голосу и подавали знакомым руку не сгибая, ладонью вниз, как она. "Фойе"
галерки, обычно в антрактах похожее на аллею бульвара, где тянулись
параллельно одна другой две тесные реки гуляющих, теперь напоминало форум:
всюду кучки, и в каждой кучке спор об одном и том же -- мыслимая ли вещь,
чтобы Принцивалле просидел с Моной Ванной, в таком наряде, целую ночь и не
протянул к ней даже руки?
Об этом шумели студенты и в той группе, где я нашел своих приятелей;
сквозь их весьма повышенные тоны я слышал, что и в соседней толпе, особенно
многолюдной, кипятились о том же. Вдруг я заметил, что в центре там стояла
та рыжая барышня. На вид ей было лет девятнадцать. Она была невысокого
роста, но сложена прекрасно по сдобному вкусу того полнокровного времени; на
ней был, конечно, тесный корсет с талией и боками, но, по-видимому, без
"чашек", что в среднем кругу, как мне говорили, считалось новшеством
нескромным; и рукава буфами не доходили даже до локтей, и хотя воротник
платья по-монашески подпирал ей горло, под воротничком спереди все-таки был
вырез вершка в полтора, тоже по тогдашнему дерзость. В довершение этого
внешнего впечатления, до меня донеслись такие отрывки разговора:
-- Но мыслимо ли, -- горячился студент, -- чтобы Принцивалле...
-- Ужас! -- воскликнула рыжая барышня, -- я бы на месте Моны Ванны
никогда этого не допустила. Такой балда!
Окружающие засмеялись, а один из них совсем заликовал:
-- Вы прелесть, Маруся, всегда скажете такую вещь, что расцеловать
хочется...
-- Подумаешь, экое отличие, -- равнодушно отозвалась Маруся, -- и так
скоро не останется на Дерибасовской ни одного студента, который мог бы
похвастаться, что никогда со мной не целовался.
Больше я не расслышал, хотя начал нарочно прислушиваться.
Закончился спектакль совсем величаво. После первого и второго акта
партер и ложи еще выжидали, что скажет высшая законодательница-галерка, и
только по ее сигналу начинали бурно хлопать; но теперь сами своевольно
загремели и ложи, и партер. Несчетное число раз выходил кланяться весь
состав, потом Мона Ванна с Принцивалле, потом Мона Ванна одна в своей черной
бархатной драпировке. Вдруг из грохота рукоплесканий выпала главная нота --
замолчала с обеих сторон боковая галерка: знак, что готовится высшая мера
триумфа, до тех пор едва ли не исключительная привилегия итальянских певиц и
певцов -- студенты ринулись в партер. Остальная публика, не переставая бить
в ладоши, обернулась выжидательно; расписной занавес опять поднялся, но еще
никого не было на сцене -- там тоже ждали высочайшего выхода юности. Через
секунду по всем проходам хлынули вперед синие сюртуки и серые тужурки;
помню, впереди всех по среднему проходу семимильными шагами шел огромный
грузин, с выражением лица деловым, серьезным, грозным, словно на баррикаду.
Подойдя к самому оркестру, он сунул фуражку под мышку и неторопливо, может
быть и не очень громко, с великим уверенным достоинством мерно и отчетливо
трижды ударил в ладоши ("словно султан, вызывающий из-за решетки прекрасную
Зюлейку", было на следующий день сказано в одной из газет). И только тогда,
в ответ на повелительный зов падишаха, вышла из-за кулис прекрасная Зюлейка;
я видел, у нее по настоящему дрожали губы, и спазмы рыданий подкатывались к
горлу; кругом стояла неописуемая буря; два капельдинера выбежали из-за кулис
убирать корзины с цветами, чтобы очистить поле для того, что тогда считалось
дороже цветов: на сцену полетели мятые, выцветшие, с облупленными козырьками
голубые фуражки. Позади студентов стояли пристава и околодочные, каждый, как
на подбор, с двумя бородами на груди; вид у них был благосклонный,
разрешительный, величественно-праздничный, подстать пылающему хрусталю,
позолоте, кариатидам, красному бархату кресел и барьеров, парадным одеждам
хлебных экспортеров и их черноглазых дам, всему великолепию беспечной сытой
Одессы. Я оглянулся на Марусю: она была вне себя от счастья, но смотрела не
на сцену, а на студентов, дергала мать за вздутые у плеч рукава и показывала
ей, по-видимому, своих ближайших друзей в толпе синих сюртуков и серых
тужурок, называя имена; если правильно помню -- до двадцати, а то и больше,
пока не пополз с потолка, тоже величаво, пожарный занавес.
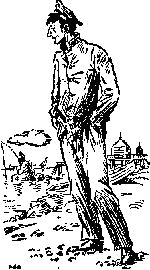 -- Кто тут у вас на берегу сторож?
-- Чубчик, -- сказал я, -- Автоном Чубчик; такой рыбак. Он ответил
презрительно:
-- Оттого и беспорядок, Чубчик! Его и другие рыбаки все за босявку
держут.
Я радостно поднял голову. Лингвистика всегда была подлинной страстью
моей жизни; и, живя в кругу просвещенном, где все старались выговаривать
слова на великорусский лад, уже давно я не слышал настоящего наречия
Фонтанов, Ланжерона, Пересыпи и Дюковского сада. "Держут за босявку".
Прелесть! "Держут" значит считают. А босявка -- это и перевести немыслимо; в
одном слове целая энциклопедия неодобрительных отзывов. -- Мой собеседник и
дальше говорил тем же слогом, но беда в том, что я-то родную речь забыл;
придется передавать его слова по большей части на казенном языке, с болью
сознавая, что каждая фраза -- не та.
-- Погодите, -- сказал он, -- это легко починить.
Вот был передо мною человек другой породы, человек с десятью пальцами!
Во-первых, у него оказался в кармане нож, и не перочинный, а финка.
Во-вторых, он тут же раздобыл и древесный материал: оглянувшись, нет ли кого
в поле зрения, уверенно подошел к соседней купальне со ступеньками и выломал
из под перил нижнюю балясину. Сломал ее пополам о колено; половинку
обстругал; примерил, влезет ли в дырку, опять постругал; выколупал кочерыжки
старых уключин и вставил новые. Только недоставало, чтобы завершил стихами:
"ну, старик, теперь готово...". -- Вместо того он, с той же
непосредственной, прямо в цель бьющей деловитостью, предложил мне способ
расплаты за услугу:
-- Возьмете меня с собой покататься?
Я, конечно, согласился, но при этом еще раз взглянул на его герб и, для
очистки совести, спросил:
-- А ведь учебный год уже начался -- вам, коллега, полагалось бы теперь
сидеть на первом уроке?
-- Le cadet de mes soucis, -- ответил он равнодушно, уже нанизывая
веревочные кольца с веслами на уключины. По-французски это у него искренно
вырвалось, а не для рисовки: я потом узнал, что у "их у младших детей были
гувернантки (но не у Маруси и не у Марко, отец тогда еще не так много
зарабатывал). Вообще он не рисовался, и более того -- совсем и не заботился
о собеседнике и о том, что собеседник думает, а поглощен был делом:
попробовал узлы на кольцах; поднял настил -- посмотреть, нет ли воды; открыл
ящик под кормовым сидением -- посмотреть, там ли черпалка; где-то постукал,
что-то потер. В то же время успел изложить, что решил показенничать, так как
узнал от соученика, проживавшего пансионером у грека, т. е. у чеха,
преподававшего греческий язык, что этот педагог решил сегодня вызвать его,
моего нового друга, не в очередь к доске. Поэтому он оставил записку матери
(она поздно встает): "если придет педель, скажи ему, что я ушел к дантисту",
депонировал ранец у соседнего табачника и проследовал на Ланжерон.
-- Компанейский человек ваша мама, -- сказал я с искренним одобрением.
Мы уже гребли.
-- Жить можно, -- подтвердил он, -- tout à fait potable.
-- Только зачем же тогда ранец у табачника? Оставили бы дома, раз мать
согласна.
-- Из-за папы невозможно. Он все еще необстрелянный. До сих пор не
может успокоиться, что я за него расписываюсь под отметками. Ничего,
привыкнет. Завтра я всю записку напишу его почерком: "сын мой, Мильгром
Сергей, пятого класса, не был такого-то числа по причине зубной боли".
Мы порядочно отъехали; он прекрасно греб, и знал все слова на языке
лодочников. Ветер сегодня опять разыграется часам к пяти, и не просто ветер,
а именно "трамонтан". "Затабаньте правым, не то налетим на той дубок".
"Смотрите -- подохла морская свинья", -- при этом указывая пальцем на тушу
дельфина, выброшенную вчера бурей на нижнюю площадку волнореза недалеко от
маяка.
В промежутках между мореходными замечаниями он дал мне много отрывочных
сведений о семье. Отец каждое утро "жарит по конке в контору", оттого он и
так опасен, когда не хочется идти в гимназию -- приходится выходить с ним из
дому вместе. По вечерам дома "толчок" (т. е., по-русски, толкучий рынок):
это к старшей сестре приходят "ее пассажиры", все больше студенты. Есть еще
старший брат Марко, человек ничего себе, "портативный", но "тюньтя" (этого
термина я и не знал: очевидно, вроде фофана или ротозея). Марко "в этом году
ницшеанец". Сережа про него собственноручно сочинил такие стихи:
Штаны с дырой, зато в идеях модник;
Ученый муж и трижды второгодник.
-- Это у нас дома, -- прибавил он, -- моя специальность. Маруся
требует, чтобы про каждого ее пассажира были стихи.
Сестра Лика, по-видимому, тоже старше Сережи, "догрызла последние
ногти, и теперь скучает и злится на всю Одессу". Моложе всех Торик, но он
"опора престола": обо всем "судит так правильно, что издали скиснуть можно".
К маяку, я забыл сказать, мы попали вот как: завидя дубок, на который
мы бы налетели, если бы он не велел "табанить", Сережа вспомнил, что теперь
у Андросовского мола полным полно дубков из Херсона -- везут монастырские
кавуны.
-- Хотите, подадимся туды? Там и пообедаем: я угощаю.
Очень уютно и забавно было мне с ним, а на даче лодка никому до вечера
не могла понадобиться; к тому же он обещал на обратный путь подобрать
"одного из обжорки", тот будет грести, а я отдохну. Я согласился, и мы
"подались" в порт, обогнув маяк и потратив на это дело часа три, из за ветра
и зыби и необходимости каждые полчаса вычерпывать из под настила все Черное
море.
-- Сухопутные они у вас адмиралы, -- бранился Сережа по адресу моих
друзей, так нерадиво содержавших лодку.
К пристани среди дубков пришлось пробираться сквозь давку, словно в
базарные часы на Толчке: малые суда чуть ли не терлись друг о друга, и
Сережа знал, что дубок, что баркас, что фелюка и еще пять или десять
названии. Очевидно, и его тут многие знали. С палуб, загроможденных
арбузами, раза три его окликнули ласково, приблизительно так:
-- Ого, Сирожка -- ты куды, гобелка? чего у класс не ходишь, сукин сын?
Как живется?
На что он неизменно отвечал:
-- Скандибобером!-- т. е., судя по тону, отлично живется. С одной
"фелюки" ему, скаля белые зубы, молодец в красной феске что-то закричал по
гречески, и Сережа отозвался на том же языке; я его не знаю, но, к
сожалению, разобрал окончание фразы -- "тин митера су", винительный падеж от
слова, означающего: твоя мамаша. В беседе со мной Сережа от этого стиля
воздерживался. Впрочем, излагая мне свои взгляды на учениц разных одесских
гимназий, он и раньше немного смутил меня своей фразеологией: самая шпацкая
форма у Куракиной-Текели -- фиолетовый цвет хорошо облегает, логарифмы
сторчат, как облупленные!
У пристани он, отказавши мне строго в разрешении внести свой пай на
расходы, сбегал куда то и принес целый куль съестного. Тут же на лодке,
окунув руки для гигиены в прорубь между арбузными корками, мы совершили
самую вкусную в моей жизни трапезу. Но еще слаще еды было любоваться на то,
как ел Сережа. Великое дело то, что англичане называют: table manners -- не
просто умение держать вилку и глотать суп без музыкального аккомпанемента, а
вообще "обряд питания", ритуал сложный, особый для каждого рода пищи и для
каждой обстановки, свято утоптанный поколениями гастрономической традиции.
Что вилка? Немудрено, когда есть вилка, действовать так, чтобы и глядеть
было приятно. Тут не только вилки не было, но она и вообще была бы
неуместна. Бублик семитати: Сережа его не сломал, а разрезал его по
экватору, на два кольца, смазал оба разреза салом, соскреб с глянцевитой
поверхности кунжутные семячки, -- ровно, как опытный сеятель на ниве,
рассыпал их по салу, опять сложил обе половинки и только тогда, не ломая,
впился в бублик зубами. Тарань: Сережа взял ее за хвост и плашмя, раз
десять, шлепнул о свой левый каблук, объяснив мне: "шкура легче слазит".
Действительно, его тарань дала себя обнажить гораздо скорее и совершеннее,
чем моя, хоть я над своею оперировал при помощи его финки; и я все еще
подрезывал прозрачные соленые пласты на крепких иглах ее скелета, когда от
его тарани давно только жирный след остался у него на подбородке, на щеках и
на кончике носа. Но высшей вершиной обряда был кавун. Я стал было нарезать
его ломтями; Сережа торопливо сказал: "для меня не надо". Он взял целую
четвертушку, подержал ее перед глазами, любуясь игрою красок, -- и исчез.
Пропал с глаз долой: был Сережа и нет Сережи. Предо мною сидела
гимназическая форма с маской зеленого мрамора вместо головы. Зависть меня
взяла: я со стороны почувствовал, что он в эту минуту переживает. Хороший
кавун пахнет тихой водой, или наоборот, это безразлично; но утонуть, как он,
в арбузе -- все равно, что заплыть пред вечером далеко в морское затишье,
лечь на спину и забыть обо всем. Идеал нирваны, ты и природа, и больше
ничего. Зависть меня взяла: я схватил вторую четвертушку и тоже распрощался
с землей.
...Потом пришел тот "один из обжорки", и я невольно подумал
по-берлински: -- so siehste aus. -- Сережа его представил: Мотя Банабак.
Тому было лет двадцать, но, несмотря на разницу возраста, это были,
по-видимому, закадычные друзья. По дороге обратно я заснул и их беседы не
слышал; но все остальное я вспомнил тогда, после театра, сидя за чашкой
восточного кофе и блюдцем сирского рахат-лукума в любимой греческой кофейне
на углу Красного переулка.
-- Кто тут у вас на берегу сторож?
-- Чубчик, -- сказал я, -- Автоном Чубчик; такой рыбак. Он ответил
презрительно:
-- Оттого и беспорядок, Чубчик! Его и другие рыбаки все за босявку
держут.
Я радостно поднял голову. Лингвистика всегда была подлинной страстью
моей жизни; и, живя в кругу просвещенном, где все старались выговаривать
слова на великорусский лад, уже давно я не слышал настоящего наречия
Фонтанов, Ланжерона, Пересыпи и Дюковского сада. "Держут за босявку".
Прелесть! "Держут" значит считают. А босявка -- это и перевести немыслимо; в
одном слове целая энциклопедия неодобрительных отзывов. -- Мой собеседник и
дальше говорил тем же слогом, но беда в том, что я-то родную речь забыл;
придется передавать его слова по большей части на казенном языке, с болью
сознавая, что каждая фраза -- не та.
-- Погодите, -- сказал он, -- это легко починить.
Вот был передо мною человек другой породы, человек с десятью пальцами!
Во-первых, у него оказался в кармане нож, и не перочинный, а финка.
Во-вторых, он тут же раздобыл и древесный материал: оглянувшись, нет ли кого
в поле зрения, уверенно подошел к соседней купальне со ступеньками и выломал
из под перил нижнюю балясину. Сломал ее пополам о колено; половинку
обстругал; примерил, влезет ли в дырку, опять постругал; выколупал кочерыжки
старых уключин и вставил новые. Только недоставало, чтобы завершил стихами:
"ну, старик, теперь готово...". -- Вместо того он, с той же
непосредственной, прямо в цель бьющей деловитостью, предложил мне способ
расплаты за услугу:
-- Возьмете меня с собой покататься?
Я, конечно, согласился, но при этом еще раз взглянул на его герб и, для
очистки совести, спросил:
-- А ведь учебный год уже начался -- вам, коллега, полагалось бы теперь
сидеть на первом уроке?
-- Le cadet de mes soucis, -- ответил он равнодушно, уже нанизывая
веревочные кольца с веслами на уключины. По-французски это у него искренно
вырвалось, а не для рисовки: я потом узнал, что у "их у младших детей были
гувернантки (но не у Маруси и не у Марко, отец тогда еще не так много
зарабатывал). Вообще он не рисовался, и более того -- совсем и не заботился
о собеседнике и о том, что собеседник думает, а поглощен был делом:
попробовал узлы на кольцах; поднял настил -- посмотреть, нет ли воды; открыл
ящик под кормовым сидением -- посмотреть, там ли черпалка; где-то постукал,
что-то потер. В то же время успел изложить, что решил показенничать, так как
узнал от соученика, проживавшего пансионером у грека, т. е. у чеха,
преподававшего греческий язык, что этот педагог решил сегодня вызвать его,
моего нового друга, не в очередь к доске. Поэтому он оставил записку матери
(она поздно встает): "если придет педель, скажи ему, что я ушел к дантисту",
депонировал ранец у соседнего табачника и проследовал на Ланжерон.
-- Компанейский человек ваша мама, -- сказал я с искренним одобрением.
Мы уже гребли.
-- Жить можно, -- подтвердил он, -- tout à fait potable.
-- Только зачем же тогда ранец у табачника? Оставили бы дома, раз мать
согласна.
-- Из-за папы невозможно. Он все еще необстрелянный. До сих пор не
может успокоиться, что я за него расписываюсь под отметками. Ничего,
привыкнет. Завтра я всю записку напишу его почерком: "сын мой, Мильгром
Сергей, пятого класса, не был такого-то числа по причине зубной боли".
Мы порядочно отъехали; он прекрасно греб, и знал все слова на языке
лодочников. Ветер сегодня опять разыграется часам к пяти, и не просто ветер,
а именно "трамонтан". "Затабаньте правым, не то налетим на той дубок".
"Смотрите -- подохла морская свинья", -- при этом указывая пальцем на тушу
дельфина, выброшенную вчера бурей на нижнюю площадку волнореза недалеко от
маяка.
В промежутках между мореходными замечаниями он дал мне много отрывочных
сведений о семье. Отец каждое утро "жарит по конке в контору", оттого он и
так опасен, когда не хочется идти в гимназию -- приходится выходить с ним из
дому вместе. По вечерам дома "толчок" (т. е., по-русски, толкучий рынок):
это к старшей сестре приходят "ее пассажиры", все больше студенты. Есть еще
старший брат Марко, человек ничего себе, "портативный", но "тюньтя" (этого
термина я и не знал: очевидно, вроде фофана или ротозея). Марко "в этом году
ницшеанец". Сережа про него собственноручно сочинил такие стихи:
Штаны с дырой, зато в идеях модник;
Ученый муж и трижды второгодник.
-- Это у нас дома, -- прибавил он, -- моя специальность. Маруся
требует, чтобы про каждого ее пассажира были стихи.
Сестра Лика, по-видимому, тоже старше Сережи, "догрызла последние
ногти, и теперь скучает и злится на всю Одессу". Моложе всех Торик, но он
"опора престола": обо всем "судит так правильно, что издали скиснуть можно".
К маяку, я забыл сказать, мы попали вот как: завидя дубок, на который
мы бы налетели, если бы он не велел "табанить", Сережа вспомнил, что теперь
у Андросовского мола полным полно дубков из Херсона -- везут монастырские
кавуны.
-- Хотите, подадимся туды? Там и пообедаем: я угощаю.
Очень уютно и забавно было мне с ним, а на даче лодка никому до вечера
не могла понадобиться; к тому же он обещал на обратный путь подобрать
"одного из обжорки", тот будет грести, а я отдохну. Я согласился, и мы
"подались" в порт, обогнув маяк и потратив на это дело часа три, из за ветра
и зыби и необходимости каждые полчаса вычерпывать из под настила все Черное
море.
-- Сухопутные они у вас адмиралы, -- бранился Сережа по адресу моих
друзей, так нерадиво содержавших лодку.
К пристани среди дубков пришлось пробираться сквозь давку, словно в
базарные часы на Толчке: малые суда чуть ли не терлись друг о друга, и
Сережа знал, что дубок, что баркас, что фелюка и еще пять или десять
названии. Очевидно, и его тут многие знали. С палуб, загроможденных
арбузами, раза три его окликнули ласково, приблизительно так:
-- Ого, Сирожка -- ты куды, гобелка? чего у класс не ходишь, сукин сын?
Как живется?
На что он неизменно отвечал:
-- Скандибобером!-- т. е., судя по тону, отлично живется. С одной
"фелюки" ему, скаля белые зубы, молодец в красной феске что-то закричал по
гречески, и Сережа отозвался на том же языке; я его не знаю, но, к
сожалению, разобрал окончание фразы -- "тин митера су", винительный падеж от
слова, означающего: твоя мамаша. В беседе со мной Сережа от этого стиля
воздерживался. Впрочем, излагая мне свои взгляды на учениц разных одесских
гимназий, он и раньше немного смутил меня своей фразеологией: самая шпацкая
форма у Куракиной-Текели -- фиолетовый цвет хорошо облегает, логарифмы
сторчат, как облупленные!
У пристани он, отказавши мне строго в разрешении внести свой пай на
расходы, сбегал куда то и принес целый куль съестного. Тут же на лодке,
окунув руки для гигиены в прорубь между арбузными корками, мы совершили
самую вкусную в моей жизни трапезу. Но еще слаще еды было любоваться на то,
как ел Сережа. Великое дело то, что англичане называют: table manners -- не
просто умение держать вилку и глотать суп без музыкального аккомпанемента, а
вообще "обряд питания", ритуал сложный, особый для каждого рода пищи и для
каждой обстановки, свято утоптанный поколениями гастрономической традиции.
Что вилка? Немудрено, когда есть вилка, действовать так, чтобы и глядеть
было приятно. Тут не только вилки не было, но она и вообще была бы
неуместна. Бублик семитати: Сережа его не сломал, а разрезал его по
экватору, на два кольца, смазал оба разреза салом, соскреб с глянцевитой
поверхности кунжутные семячки, -- ровно, как опытный сеятель на ниве,
рассыпал их по салу, опять сложил обе половинки и только тогда, не ломая,
впился в бублик зубами. Тарань: Сережа взял ее за хвост и плашмя, раз
десять, шлепнул о свой левый каблук, объяснив мне: "шкура легче слазит".
Действительно, его тарань дала себя обнажить гораздо скорее и совершеннее,
чем моя, хоть я над своею оперировал при помощи его финки; и я все еще
подрезывал прозрачные соленые пласты на крепких иглах ее скелета, когда от
его тарани давно только жирный след остался у него на подбородке, на щеках и
на кончике носа. Но высшей вершиной обряда был кавун. Я стал было нарезать
его ломтями; Сережа торопливо сказал: "для меня не надо". Он взял целую
четвертушку, подержал ее перед глазами, любуясь игрою красок, -- и исчез.
Пропал с глаз долой: был Сережа и нет Сережи. Предо мною сидела
гимназическая форма с маской зеленого мрамора вместо головы. Зависть меня
взяла: я со стороны почувствовал, что он в эту минуту переживает. Хороший
кавун пахнет тихой водой, или наоборот, это безразлично; но утонуть, как он,
в арбузе -- все равно, что заплыть пред вечером далеко в морское затишье,
лечь на спину и забыть обо всем. Идеал нирваны, ты и природа, и больше
ничего. Зависть меня взяла: я схватил вторую четвертушку и тоже распрощался
с землей.
...Потом пришел тот "один из обжорки", и я невольно подумал
по-берлински: -- so siehste aus. -- Сережа его представил: Мотя Банабак.
Тому было лет двадцать, но, несмотря на разницу возраста, это были,
по-видимому, закадычные друзья. По дороге обратно я заснул и их беседы не
слышал; но все остальное я вспомнил тогда, после театра, сидя за чашкой
восточного кофе и блюдцем сирского рахат-лукума в любимой греческой кофейне
на углу Красного переулка.
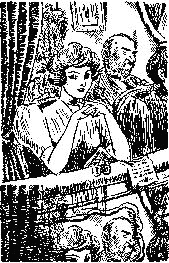 -- Всякая мать за всех детей тревожится; но меньше всего я тревожусь
именно за Марусю. Вы в детстве катались на гигантских шагах? Взлетаешь чуть
ли не до луны, падаешь как будто в пропасть -- но это все только так
кажется, а на самом деле есть привязь и прочная граница. У Маруси есть
граница, дальше которой ее никакие усы не оцарапают -- хотя я, конечно, не
хотела бы знать точно, где эта граница; -- но вот мой муж... Игнац
Альбертович был много старше, полный, с бритым подбородком, в очках; я и по
виду сказал бы, что хлебник -- так и оказалось. Судя по акценту, он в
русской школе не учился, но, невидимому, сам над собою поработал; особенно
усердно, как было еще принято в его поколении, читал немецких классиков --
впоследствии цитировал на память чуть ли не страницы из Берне, а из поэтов
особенно почему то любил Шамиссо и Ленау. В результате был на нем отчасти
тот неопределимый отпечаток, который мы передаем смешным словом
"интеллигент"; слово столь же зыбкого содержания, как у англичан
"джентльмен". У подлинного джентльмена могут быть невыносимо скверные
манеры, как и настоящий интеллигент может спокойно, даже зевнув, обнаружить
незнание Мопассана или Гегеля: дело тут не в реальных признаках, а в какой
то внутренней пропудренности культурой вообще. -- Но вместе с тем в Игнаце
Альбертовиче прежде всего чувствовался человек из мира "делов", знающий цену
вещам и людям и убежденный, что цена, вероятно, и есть самая сущность. Это
все я узнал после, когда сошелся с семьею, хотя и в той первой беседе мне
врезались в память некоторые его оценки.
Анна Михаиловна сразу ему пожаловалась, что я в контору не хочу, а
намерен "весь век остаться сочинителем".
-- Что ж, -- сказал он, -- молодой человек, очевидно, имеет свою
фантазию в жизни. У нашего сына Марко, что ни месяц, новая фантазия; я ему
всегда говорю: "С Богом, желаю успеха; только помни: если тебе удастся, я
скажу: молодец, я всегда предсказывал, что из него выйдет толк. А если
провалишься, я скажу: да разве я еще с его рождения не знал, что Марко
дурак?".
Я поблагодарил за науку, но предпочел опять перевести беседу подальше
от себя, на их собственных детей; это было нетрудно -- Анна Михайловна явно
любила эту тему, и муж ее тоже от нее не сторонился. Сережу они описали
точно таким, каким я его уже знал; Игнац Альбертович, протирая очки,
закрепил это описание формулой несколько неожиданной:
-- Вообще шарлатан; люблю шарлатанов.
Зато о Торике (его звали Виктор), самом младшем, Анна Михайловна
говорила почтительно: хорошо учится, много читает, ходит на гимнастику,
недурно играет на скрипке, вежлив, охотно услужлив; когда у матери было
воспаление легких, а Маруся тогда была за границей, Торик ходил за больною
лучше всякой сиделки.
-- Есть, -- сказал Игнац Альбертович, -- люди, которые любят суп с
лапшою, а есть и такие, что любят его с клецками. Это не просто, это два
характера. Лапша -- дело скользкое: если повезет, наберешь целую копну; но
есть и риск, что все соскользнет. А с клецками никакого беспокойства: больше
одной не выловишь, зато с мясом, и уж наверняка. У нас Сережа любит суп с
лапшею, а Торик с клецками.
Я долго смеялся, хотя слышал эту притчу и раньше, во многих версиях; но
он очень сочно все это изложил. Я спросил:
-- Теперь мне знакома вся галерея семейных портретов, но Сережа
говорил, что есть еще сестра -- Лика?
Анна Михайловна посмотрела на мужа, а он -- на пол, и сказал
раздумчиво:
-- Лика. Гм... Лика -- это не сюжет для разговора во время танцев.
-- Всякая мать за всех детей тревожится; но меньше всего я тревожусь
именно за Марусю. Вы в детстве катались на гигантских шагах? Взлетаешь чуть
ли не до луны, падаешь как будто в пропасть -- но это все только так
кажется, а на самом деле есть привязь и прочная граница. У Маруси есть
граница, дальше которой ее никакие усы не оцарапают -- хотя я, конечно, не
хотела бы знать точно, где эта граница; -- но вот мой муж... Игнац
Альбертович был много старше, полный, с бритым подбородком, в очках; я и по
виду сказал бы, что хлебник -- так и оказалось. Судя по акценту, он в
русской школе не учился, но, невидимому, сам над собою поработал; особенно
усердно, как было еще принято в его поколении, читал немецких классиков --
впоследствии цитировал на память чуть ли не страницы из Берне, а из поэтов
особенно почему то любил Шамиссо и Ленау. В результате был на нем отчасти
тот неопределимый отпечаток, который мы передаем смешным словом
"интеллигент"; слово столь же зыбкого содержания, как у англичан
"джентльмен". У подлинного джентльмена могут быть невыносимо скверные
манеры, как и настоящий интеллигент может спокойно, даже зевнув, обнаружить
незнание Мопассана или Гегеля: дело тут не в реальных признаках, а в какой
то внутренней пропудренности культурой вообще. -- Но вместе с тем в Игнаце
Альбертовиче прежде всего чувствовался человек из мира "делов", знающий цену
вещам и людям и убежденный, что цена, вероятно, и есть самая сущность. Это
все я узнал после, когда сошелся с семьею, хотя и в той первой беседе мне
врезались в память некоторые его оценки.
Анна Михаиловна сразу ему пожаловалась, что я в контору не хочу, а
намерен "весь век остаться сочинителем".
-- Что ж, -- сказал он, -- молодой человек, очевидно, имеет свою
фантазию в жизни. У нашего сына Марко, что ни месяц, новая фантазия; я ему
всегда говорю: "С Богом, желаю успеха; только помни: если тебе удастся, я
скажу: молодец, я всегда предсказывал, что из него выйдет толк. А если
провалишься, я скажу: да разве я еще с его рождения не знал, что Марко
дурак?".
Я поблагодарил за науку, но предпочел опять перевести беседу подальше
от себя, на их собственных детей; это было нетрудно -- Анна Михайловна явно
любила эту тему, и муж ее тоже от нее не сторонился. Сережу они описали
точно таким, каким я его уже знал; Игнац Альбертович, протирая очки,
закрепил это описание формулой несколько неожиданной:
-- Вообще шарлатан; люблю шарлатанов.
Зато о Торике (его звали Виктор), самом младшем, Анна Михайловна
говорила почтительно: хорошо учится, много читает, ходит на гимнастику,
недурно играет на скрипке, вежлив, охотно услужлив; когда у матери было
воспаление легких, а Маруся тогда была за границей, Торик ходил за больною
лучше всякой сиделки.
-- Есть, -- сказал Игнац Альбертович, -- люди, которые любят суп с
лапшою, а есть и такие, что любят его с клецками. Это не просто, это два
характера. Лапша -- дело скользкое: если повезет, наберешь целую копну; но
есть и риск, что все соскользнет. А с клецками никакого беспокойства: больше
одной не выловишь, зато с мясом, и уж наверняка. У нас Сережа любит суп с
лапшею, а Торик с клецками.
Я долго смеялся, хотя слышал эту притчу и раньше, во многих версиях; но
он очень сочно все это изложил. Я спросил:
-- Теперь мне знакома вся галерея семейных портретов, но Сережа
говорил, что есть еще сестра -- Лика?
Анна Михайловна посмотрела на мужа, а он -- на пол, и сказал
раздумчиво:
-- Лика. Гм... Лика -- это не сюжет для разговора во время танцев.
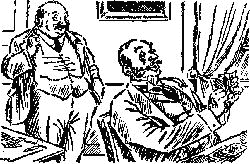 Конечно, была в этом доме и другая жизнь, помимо старшей дочери и
собиравшейся у нее ватаги; только очень казалась она заслоненной, и сам
Игнац Альбертович говорил о себе и жене и гостях не марусиных: -- Мы --
вторая гарнитура... Между тем вышло так, что в дальнейшем ходе разных
ответвлений этой веселой и горькой истории тем "заслоненным" достались
видные роли; надо и их помянуть.
Были "Нюра и Нюта" -- мать и дочь; дочь называла мамашу по имени.
Собственно звали старшую даму Анной, а девицу Ноэми -- на библейском имени
настоял отец; он же, говорят, очень сердился за то, что мать и дочь, хотя бы
неофициально, слывут как будто тезками наперекор еврейской традиции; но с
ним мало считались, человек он был застенчивый, молчаливый, и часто уезжал
по делам. Нюра и Нюта не только себе клички придумали похожие -- они и
одевались одинаково, и причесывались друг под друга и всегда были
неразлучны. Кажется, они и губы подкрашивали -- серьезная в те годы
уголовщина. "В Нюре с Нютой есть что-то порочное", уверяла Маруся; а Сережа
их, напротив, защищал следующим образом: "Ничего подобного, просто дурака
валяют"; причем этот обмен мнений произошел в присутствии самих Нюры и Нюты
и моем и еще всякого разного народу, и никто не обиделся, только мать и
дочь, сидевшие рядом, повернули друг к другу лица под одним и тем же углом и
улыбнулись друг дружке одной и той же стороною губ. -- Дочери было,
вероятно, лет двадцать пять, она формально считалась приходившей к Марусе (у
которой вообще бывало много и женской молодежи); мать ее числилась, конечно,
гостьей Анны Михайловны; но впечатление было такое, будто Нюра и Нюта, где
бы ни были, всегда, собственно, делают визиты друг другу.
Еще бывал там один гость, не разобраться чей; меня с ним раза три
знакомили, пока я его заметил. Был это дальний племянник Анны Михайловны,
уже взрослым юношей прибывший из местечка на Днепре; теперь ему было,
по-видимому, лет двадцать восемь, не меньше. Он называл хозяев "дядя" и
"тетя", со всеми детьми был на ты, но этим близость и ограничивалась;
приходил часто, но ни в каких общих затеях, играх, прогулках не участвовал;
все так привыкли к его пассивному присутствию, что оно уже никого не
стесняло, ни хозяев, ни гостей, ни его самого. Я попробовал однажды с ним
разговориться, но успеха не имел; только вынес впечатление, что он и меня и
всю компанию презирает, и вообще мужчина угрюмый и не очень
доброжелательный. Фамилия у него была странная -- Козодой; в семье называли
его Самойло; он имел звание помощника провизора и служил в аптекарском
магазине, а слова "аптекарский магазин" произносил оба с ударениями на
предпоследнем слоге. Кто то пустил слух, будто он влюблен в Марусю; но все
они были в нее влюблены, и меньше всего был похож на вздыхателя именно
Самойло -- кажется, даже не заговаривал с нею, а на ее редкие обращения
отвечал равнодушно и деловито, не поощряя к продолжению беседы. Еще помню:
говорили, что он о своем ремесле держится очень высокого мнения и называет
себя не фармацевт, а фармаколог; Сережа это выговаривал: "фармаколух".
Затем помню еще двух родственников, между собою братьев, совсем
пожилых; старшего звали Абрам Моисеевич, второго Борис Маврикиевич, и это
различие в стилизации одного и того же отчества определяло многое в их
несходной натуре. Старший, старик богатый, любил щеголять первобытной своей
неотесанностью. Все ходячие престарелые словечки и остроты на эту тему я
слышал от него. "Образование?" -- говорил он, вытаскивая бумажник: "вот мое
образование". Или: "Убеждения? вот...". Или: "Что, Игнац, твой Марко опять
остался на второй год? Это ты дурак, а не он. Мой Сема тоже лентяй, но я что
делаю? .Перед экзаменами встречаю в клубе его директора и говорю прямо: г.
Суббоцкий, держу с вами пари на пятьсот, что мой сын опять застрянет. -- И
дело в шляпе". Брата своего Бориса Маврикиевича он терпеть не мог, всячески
ему досаждал; за глаза называл его "этот шмендрик", а в глаза на людях не
Борис, но "Бенреш".
Борис Маврикиевич был всего лет на пять моложе, но воспитан был или сам
себя воспитал совсем по иному. Выражался правильно по-русски, а оттенки
акцента сглаживал тем, что в присутствии русских старался говорить басом
(это, говорят, помогает). Много лет назад, принимая грязевые ванны на
Хаджибейском лимане, он познакомился с писателем Данилевским; тот ему
подарил на память свой роман "Девятый вал", и Борис Маврикиевич оттуда
всегда цитировал места, подходящие к теме данной беседы. Более того: когда в
кредитном обществе, где он и брат его Абрам Моисеевич оба состояли членами
правления, появился вдруг некий строптивый пайщик и произвел не помню какой
скандал в годовом собрании, -- я сам слышал, вот этими ушами, как Борис
Маврикиевич о нем отозвался: "Это Робеспьер какой то; кончит тем, что и его
какая-нибудь Шарлотта застрелит в бане". Росту он был богатырского, грудь
носил колесом; раз я встретил его на Дерибасовской, в сизой крылатке вроде
офицерской, а на голове у него была самая подлинная дворянская фуражка с
красным околышком, и общий эффект был отменно православный. Он носил
бакенбарды в полщеки, а подбородок брил ежедневно, с синевой, и по пятницам
приходила к нему маникюрша.
В клубе он играл в винт исключительно с чиновниками -- тут то и любил
старший брат подойти и сказать во всеуслышание: "Бейреш, пора домой, твоя
жена Фейгеле беспокоится", -- а тот был холостяк, и никакой Фейгеле и на
свете не было.
Смешили они меня до умору; но в одном должен признаться -- эти двое, и
с ними еще Игнац Альбертович, первые мне показали то, что потом в жизни
много раз еще подтвердилось: что гораздо любопытнее говорить с купцами, чем
с профессиональными интеллигентами. В естественном кругу моем я встречался
больше с литераторами и адвокатами: потолковав о книгах, больше не о чем
бывало нам беседовать, разве что рассказывать анекдоты судебные или
редакционные. Но когда те три "хлебника", уставши от вечной игры в очко и в
шестьдесят шесть, клали локти на стол и начинали пересуживать свои биржевые
дела, я невольно заслушивался, и мне на час открывался весь божий мир и чем
он живет. По тысячам дорог Украины скрипят телеги, хохлы кричат на волов
"цоб-цобе", -- это везут зерно со всех сторон к пристаням кормильца-Днепра,
и жизнь сорока миллионов зависит от того, какие будут в этом сезоне отмечены
в бюллетене одесского гоф-маклера ставки на ульку или сандомирку. Но и эти
ставки зависят от того, оправдаются ли тревожные слухи, будто султан хочет
опять закрыть Дарданеллы; а слухи пошли из за каких то событий в Индии или в
Персии, и как то связаны с этим и Франц-Иосиф, и императрица Мария
Федоровна, и французский премьер Комб, и еще, и еще. Обо всем этом они
говорили не вчуже, не просто как читатели газет, а запальчиво, как о деталях
собственного кровного предприятия; одних царей одобряли, других ругали, и о
тех и других как будто что то знали такое, чего нигде не вычитаешь.
Подтверждалось это мое впечатление также и тем еще, как тесно
подружился с Абрамом Моисеевичем юнейший в доме Торик: Торик, несмотря на
великую свою обходительность со всеми людьми без различия, не стал бы терять
времени на разговоры, лишенные поучительности. Старик у него просиживал
часами: хотя у Марко с Сережей была комната общая, Торику отвели, конечно,
отдельную. Раза два и я напросился третьим в их беседу; в самом деле,
занимательно и сочно рассказывал старик о Севастопольской кампании, о смерти
Линкольна, о парижской коммуне, о Скобелеве, о процессе Желябова, о Буланже
и тому подобных явлениях из хроники черноморской хлеботорговли. Но помню,
что больше всего при этом мне импонировал не Абрам Моисеевич, а Торик; еще
точнее -- не сам Торик, который слушал и молчал, а его комната. Она была вся
заставлена книгами, отражавшими разные стадии его духовного развития.
"Задушевное Слово", "Родник", "Вокруг Света" и так дальше до ежемесячника
"Мир Божий" -- все в сохранности, в комплектах, в переплетах; русские
классики; целая полка Bibliothèque Rose и всяческих Moreeaux Choisis;
даже, к моему изумлению, "История" Греца, единственная книга еврейского
содержания во всем доме. Письменный стол содержался в порядке; правильным
столбиком лежали школьные тетради в голубых обложках, из каждой свешивалась
цветная ленточка, приклеенная облатками и к обложке, и к промокашке; на
стене висело расписание уроков...
А однажды случилось так: Анна Михайловна, когда мальчиков не было дома,
попросила меня принести ей словарь Макарова с полки у Торика, но я ошибся
дверью и попал в комнату, где еще никогда не был. Полагалось бы сейчас же
отступить, но я про это забыл, так меня разом удивила обстановка и атмосфера
той комнаты. Словно из другого дома: железная кровать, два некрашенных
стула, облупленный умывальник, на нем гребешок, мыло и зубная щетка и больше
ничего. На столе валялись книжки; заглавий я не мог прочесть с порога, но
узнал их по формату -- эту словесность тогда просто называли "брошюрами", и
о том же ходе мысли говорил прибитый кнопками к обоям портрет Лассаля.
Подивившись на все это, я закрыл дверь, разыскал у Торика словарь, понес его
Анне Михайловне и в коридоре встретил Лику: глядя прямо перед собою, она
тщательно отвела плечо, чтобы я как-нибудь не задел ее за форменный
темно-зеленый рукав, и прошла в ту комнату к себе.
Конечно, была в этом доме и другая жизнь, помимо старшей дочери и
собиравшейся у нее ватаги; только очень казалась она заслоненной, и сам
Игнац Альбертович говорил о себе и жене и гостях не марусиных: -- Мы --
вторая гарнитура... Между тем вышло так, что в дальнейшем ходе разных
ответвлений этой веселой и горькой истории тем "заслоненным" достались
видные роли; надо и их помянуть.
Были "Нюра и Нюта" -- мать и дочь; дочь называла мамашу по имени.
Собственно звали старшую даму Анной, а девицу Ноэми -- на библейском имени
настоял отец; он же, говорят, очень сердился за то, что мать и дочь, хотя бы
неофициально, слывут как будто тезками наперекор еврейской традиции; но с
ним мало считались, человек он был застенчивый, молчаливый, и часто уезжал
по делам. Нюра и Нюта не только себе клички придумали похожие -- они и
одевались одинаково, и причесывались друг под друга и всегда были
неразлучны. Кажется, они и губы подкрашивали -- серьезная в те годы
уголовщина. "В Нюре с Нютой есть что-то порочное", уверяла Маруся; а Сережа
их, напротив, защищал следующим образом: "Ничего подобного, просто дурака
валяют"; причем этот обмен мнений произошел в присутствии самих Нюры и Нюты
и моем и еще всякого разного народу, и никто не обиделся, только мать и
дочь, сидевшие рядом, повернули друг к другу лица под одним и тем же углом и
улыбнулись друг дружке одной и той же стороною губ. -- Дочери было,
вероятно, лет двадцать пять, она формально считалась приходившей к Марусе (у
которой вообще бывало много и женской молодежи); мать ее числилась, конечно,
гостьей Анны Михайловны; но впечатление было такое, будто Нюра и Нюта, где
бы ни были, всегда, собственно, делают визиты друг другу.
Еще бывал там один гость, не разобраться чей; меня с ним раза три
знакомили, пока я его заметил. Был это дальний племянник Анны Михайловны,
уже взрослым юношей прибывший из местечка на Днепре; теперь ему было,
по-видимому, лет двадцать восемь, не меньше. Он называл хозяев "дядя" и
"тетя", со всеми детьми был на ты, но этим близость и ограничивалась;
приходил часто, но ни в каких общих затеях, играх, прогулках не участвовал;
все так привыкли к его пассивному присутствию, что оно уже никого не
стесняло, ни хозяев, ни гостей, ни его самого. Я попробовал однажды с ним
разговориться, но успеха не имел; только вынес впечатление, что он и меня и
всю компанию презирает, и вообще мужчина угрюмый и не очень
доброжелательный. Фамилия у него была странная -- Козодой; в семье называли
его Самойло; он имел звание помощника провизора и служил в аптекарском
магазине, а слова "аптекарский магазин" произносил оба с ударениями на
предпоследнем слоге. Кто то пустил слух, будто он влюблен в Марусю; но все
они были в нее влюблены, и меньше всего был похож на вздыхателя именно
Самойло -- кажется, даже не заговаривал с нею, а на ее редкие обращения
отвечал равнодушно и деловито, не поощряя к продолжению беседы. Еще помню:
говорили, что он о своем ремесле держится очень высокого мнения и называет
себя не фармацевт, а фармаколог; Сережа это выговаривал: "фармаколух".
Затем помню еще двух родственников, между собою братьев, совсем
пожилых; старшего звали Абрам Моисеевич, второго Борис Маврикиевич, и это
различие в стилизации одного и того же отчества определяло многое в их
несходной натуре. Старший, старик богатый, любил щеголять первобытной своей
неотесанностью. Все ходячие престарелые словечки и остроты на эту тему я
слышал от него. "Образование?" -- говорил он, вытаскивая бумажник: "вот мое
образование". Или: "Убеждения? вот...". Или: "Что, Игнац, твой Марко опять
остался на второй год? Это ты дурак, а не он. Мой Сема тоже лентяй, но я что
делаю? .Перед экзаменами встречаю в клубе его директора и говорю прямо: г.
Суббоцкий, держу с вами пари на пятьсот, что мой сын опять застрянет. -- И
дело в шляпе". Брата своего Бориса Маврикиевича он терпеть не мог, всячески
ему досаждал; за глаза называл его "этот шмендрик", а в глаза на людях не
Борис, но "Бенреш".
Борис Маврикиевич был всего лет на пять моложе, но воспитан был или сам
себя воспитал совсем по иному. Выражался правильно по-русски, а оттенки
акцента сглаживал тем, что в присутствии русских старался говорить басом
(это, говорят, помогает). Много лет назад, принимая грязевые ванны на
Хаджибейском лимане, он познакомился с писателем Данилевским; тот ему
подарил на память свой роман "Девятый вал", и Борис Маврикиевич оттуда
всегда цитировал места, подходящие к теме данной беседы. Более того: когда в
кредитном обществе, где он и брат его Абрам Моисеевич оба состояли членами
правления, появился вдруг некий строптивый пайщик и произвел не помню какой
скандал в годовом собрании, -- я сам слышал, вот этими ушами, как Борис
Маврикиевич о нем отозвался: "Это Робеспьер какой то; кончит тем, что и его
какая-нибудь Шарлотта застрелит в бане". Росту он был богатырского, грудь
носил колесом; раз я встретил его на Дерибасовской, в сизой крылатке вроде
офицерской, а на голове у него была самая подлинная дворянская фуражка с
красным околышком, и общий эффект был отменно православный. Он носил
бакенбарды в полщеки, а подбородок брил ежедневно, с синевой, и по пятницам
приходила к нему маникюрша.
В клубе он играл в винт исключительно с чиновниками -- тут то и любил
старший брат подойти и сказать во всеуслышание: "Бейреш, пора домой, твоя
жена Фейгеле беспокоится", -- а тот был холостяк, и никакой Фейгеле и на
свете не было.
Смешили они меня до умору; но в одном должен признаться -- эти двое, и
с ними еще Игнац Альбертович, первые мне показали то, что потом в жизни
много раз еще подтвердилось: что гораздо любопытнее говорить с купцами, чем
с профессиональными интеллигентами. В естественном кругу моем я встречался
больше с литераторами и адвокатами: потолковав о книгах, больше не о чем
бывало нам беседовать, разве что рассказывать анекдоты судебные или
редакционные. Но когда те три "хлебника", уставши от вечной игры в очко и в
шестьдесят шесть, клали локти на стол и начинали пересуживать свои биржевые
дела, я невольно заслушивался, и мне на час открывался весь божий мир и чем
он живет. По тысячам дорог Украины скрипят телеги, хохлы кричат на волов
"цоб-цобе", -- это везут зерно со всех сторон к пристаням кормильца-Днепра,
и жизнь сорока миллионов зависит от того, какие будут в этом сезоне отмечены
в бюллетене одесского гоф-маклера ставки на ульку или сандомирку. Но и эти
ставки зависят от того, оправдаются ли тревожные слухи, будто султан хочет
опять закрыть Дарданеллы; а слухи пошли из за каких то событий в Индии или в
Персии, и как то связаны с этим и Франц-Иосиф, и императрица Мария
Федоровна, и французский премьер Комб, и еще, и еще. Обо всем этом они
говорили не вчуже, не просто как читатели газет, а запальчиво, как о деталях
собственного кровного предприятия; одних царей одобряли, других ругали, и о
тех и других как будто что то знали такое, чего нигде не вычитаешь.
Подтверждалось это мое впечатление также и тем еще, как тесно
подружился с Абрамом Моисеевичем юнейший в доме Торик: Торик, несмотря на
великую свою обходительность со всеми людьми без различия, не стал бы терять
времени на разговоры, лишенные поучительности. Старик у него просиживал
часами: хотя у Марко с Сережей была комната общая, Торику отвели, конечно,
отдельную. Раза два и я напросился третьим в их беседу; в самом деле,
занимательно и сочно рассказывал старик о Севастопольской кампании, о смерти
Линкольна, о парижской коммуне, о Скобелеве, о процессе Желябова, о Буланже
и тому подобных явлениях из хроники черноморской хлеботорговли. Но помню,
что больше всего при этом мне импонировал не Абрам Моисеевич, а Торик; еще
точнее -- не сам Торик, который слушал и молчал, а его комната. Она была вся
заставлена книгами, отражавшими разные стадии его духовного развития.
"Задушевное Слово", "Родник", "Вокруг Света" и так дальше до ежемесячника
"Мир Божий" -- все в сохранности, в комплектах, в переплетах; русские
классики; целая полка Bibliothèque Rose и всяческих Moreeaux Choisis;
даже, к моему изумлению, "История" Греца, единственная книга еврейского
содержания во всем доме. Письменный стол содержался в порядке; правильным
столбиком лежали школьные тетради в голубых обложках, из каждой свешивалась
цветная ленточка, приклеенная облатками и к обложке, и к промокашке; на
стене висело расписание уроков...
А однажды случилось так: Анна Михайловна, когда мальчиков не было дома,
попросила меня принести ей словарь Макарова с полки у Торика, но я ошибся
дверью и попал в комнату, где еще никогда не был. Полагалось бы сейчас же
отступить, но я про это забыл, так меня разом удивила обстановка и атмосфера
той комнаты. Словно из другого дома: железная кровать, два некрашенных
стула, облупленный умывальник, на нем гребешок, мыло и зубная щетка и больше
ничего. На столе валялись книжки; заглавий я не мог прочесть с порога, но
узнал их по формату -- эту словесность тогда просто называли "брошюрами", и
о том же ходе мысли говорил прибитый кнопками к обоям портрет Лассаля.
Подивившись на все это, я закрыл дверь, разыскал у Торика словарь, понес его
Анне Михайловне и в коридоре встретил Лику: глядя прямо перед собою, она
тщательно отвела плечо, чтобы я как-нибудь не задел ее за форменный
темно-зеленый рукав, и прошла в ту комнату к себе.
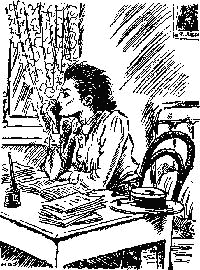 Мы все, человек десять за столом, изумленно обернулись на Лику. Никогда
ни одному из нас это в голову не приходило; вероятно, и родным ее тоже. Лика
была едва ли не просто неряха, волосы скручивала редькой на макушке, и то
редька всегда сползала на бок; она грызла ногти, и чулки у нее, плохо
натянутые, морщились гармоникой из под не совсем еще длинной юбки. Главное
-- вся повадка ее, чужая и резкая, не вязалась с представлением о
привлекательности, -- не взбредет же на ум человеку присмотреться, длинные
ли ресницы у городового. Посвященный ей Сережей "портрет" начинался так:
Велика штука -- не язык, а пика:
А ну-ка уко-лика, злюка Лика!
А прав был художник, я теперь увидел. Странно: простая миловидность
сразу бросается в глаза, но настоящую большую красоту надо "открыть". Черные
волосы Лики, там, где не были растрепаны, отливали темной синевой,
точь-в-точь оттенка морской воды в тени между скалами в очень яркий день.
Синие были и глаза, в эту минуту с огромными злыми зрачками, и от ресниц
падала тень на полщеки. Лоб и нос составляли одну прямую черту, греческую,
почти без впадины; верхняя губа по рисунку напоминала геральдический лук,
нижняя чуть-чуть выдавалась в презрительном вызове навстречу обидчику. От
обиды она бросила ложку, и я увидел ее пальцы, как карандашики, длинные,
тонкие, прямые, на узкой длинной кисти; и даже обкусанные края не нарушали
овальной формы ногтей. Прежде, чем вскочить, она возмущенно подняла плечи, и
когда опустила их, я в первый раз увидал, что они, хоть и очень еще детские,
срисованы Богом с капитолийской Венеры -- наклонные, два бедра высокого
треугольника, без подушек у перехода в предплечья... Но ложка упала так, что
брызги борща со сметаной разлетелись по всем окрестным лицам; стул
повалился, когда она вскочила; и, не сказав ни слова, она ушла из столовой.
-- Вижу, -- вздохнул художник, -- не захочет барышня позировать.
Анна Михайловна была очень сконфужена и без конца извинялась; гость,
кажется, не обиделся, но почему то очень оскорбленным почувствовал себя я.
Если бы не то, что вообще я с Ликой никогда и двух слов не оказал, я бы в
тот же вечер постучался в ее камеру, вошел бы, не дождавшись "войдите", и
выбранил бы ее всеми словами, какие только в печати дозволены. Но случайно
эта возможность устроить ей сцену представилась мне через несколько дней.
Было это так: однажды ночью мы большой компанией взбирались по крутому
обрыву, гуськом, я предпоследний, а за мною Лика. Утром прошел дождь,
тропинка была еще рыхлая и скользкая. Из под ног у Лики вдруг выкатился
камень, она вскрикнула, села, и ее медленно потащило вниз. Я опустился,
нагнулся и схватил ее за руку.
-- Пустите руку, -- сказала она сердито.
Досада меня взяла; точно малого ребенка, я потащил ее вверх, и она,
словно и вправду упрямый ребенок, выворачивалась и локтем, и плечами, но
все-таки добралась до прочного устоя. Там я ее отпустил; она смотрела мимо,
тяжело дыша, и видно было, что в душе у нее происходит борьба: обругать ли?
сказать ли спасибо? Я отстранился, дал ей пройти вперед; она шагнула, слегка
вскрикнула и села, потирая щиколотку.
-- Не надо ждать, -- сказала она сквозь зубы, глядя все в сторону.
-- Пройдет, тогда и пойдем, -- ответил я с искренним бешенством. -- По
моим правилам не оставляют одной несовершеннолетнюю девицу, которая
вывихнула ногу, даже если она невоспитанная.
Длинная пауза; сверху и голосов уже не было слышно, спутники наши
перевалили через край обрыва. У меня отлегло раздражение, я рассмеялся и
спросил:
-- В чем дело, Лика; или, если угодно, в чем дело, Лидия Игнатьевна --
за что вы так меня возненавидели?
Она пожала плечами:
-- И не думала. Вы для меня просто не существуете. Ни вы, ни... -- Она
поискала слова и нашла целую тираду: -- ни вся эта орава бесполезных вокруг
Маруси, и Марко, и мамы.
-- От ликующих, праздно болтающих, уведи меня в стан погибающих?
-- Можете скалить зубы, мне и это все равно. И, во всяком случае, не в
стан "погибающих".
-- А каких?
Она опять передернула плечами и промолчала, растирая ногу. Полумесяц
светил ей прямо в лицо; очень прав был тот художник.
-- Знаете? -- заговорил я, -- раз, когда у вас было такое выражение
лица, Сережа подтолкнул меня и сказал: Жанна д'Арк слышит голоса.
Вдруг она повернулась ко мне и взглянула прямо в глаза, в первый раз и,
кажется, в последний за все наше знакомство; и невольно я вспомнил слово:
посмотрит -- рублем подарит. Не в смысле ласки или милости "подарок", взгляд
ее был чужой и ко мне совсем не относился: но предо мной открылось окошко в
незнакомый темный сад; и, несмотря на темноту, нельзя было не дать себе
отчета, что большой чей-то сад.
-- Вы меня вытащили, -- сказала она другим тоном, спокойно и учтиво, --
напрасно я на вас огрызнулась; в искупление -- я вам на этот раз отвечу
серьезно, хотя, вообще, право, незачем и не о чем нам разговаривать. Сережа,
если хотите, прав:
"голоса". Я их все время слышу, со всех сторон; они шепчут или кричат
одно и то же, одно слово.
Я ждал, какое, но ей, очевидно, трудно его было выговорить. Я
попробовал помочь:
-- "Хлеба"? "Спаси"?
Она покачала головой, все не сводя с меня повелительных синих глаз:
-- Даже невоспитанной барышне трудно произнести. -- "Сволочь".
Странно, меня не покоробило (хотя написать только что эти семь букв на
бумаге, я не сразу решился): грубое кабацкое слово донеслось из глубины того
чужого сада не руганью, а в каком то первобытном значении, точно вырвала она
его, на языке ветхозаветных отшельников, из затерянной гневной главы
Писания. Теперь мы смотрели друг другу в глаза уже без насмешки с моей
стороны и вызова с ее, серьезно и напряженно, два заклятых врага, которым
настал час договориться до конца.
-- Это вы о ком?
-- Обо всех и ни о ком. Вообще люди. Итог. -- Вы думали, что мои голоса
кричат "хлеба!" и просят: приди и спаси? Это вы мне много чести делаете, не
по заслугам: я-то знаю про голод и Сибирь и все ужасы, но мне никого не
жалко и никого я спасать не пойду, и меньше всего в стан погибающих.
-- Понял: в стан разрушающих? в стан сожигающих?
-- Если хватит меня, да.
-- Одна, без товарищей?
-- Поищу товарищей, когда окрепну.
-- Разве так ищут, каждого встречного заранее осуждая без допроса?
-- Неправда, я сразу делаю допрос, только вам не слышно. Я сразу
чувствую чужого.
Она подумала напряженно, потом сказала:
-- Трудно определить, но, может быть, критерий такой: есть люди с белой
памятью и есть с черной. Первые лучше всего запоминают из жизни хорошее,
оттого им весело... с Марусей, например. А злопамятные записывают только все
черное: "хорошее" у них само собою через час стирается с доски, да и совсем
оно для них и не было "хорошим". Я в каждом человеке сразу угадываю,
черно-памятный он или бело-памятный; незачем допрашивать. -- Теперь я уже
могу пойти, и буду на вас опираться, и наверху скажу спасибо, только уговор
-- как бы это выразить...
Я ей помог:
-- Будьте спокойны, обещаю и впредь обходить вас за версту.
Мы все, человек десять за столом, изумленно обернулись на Лику. Никогда
ни одному из нас это в голову не приходило; вероятно, и родным ее тоже. Лика
была едва ли не просто неряха, волосы скручивала редькой на макушке, и то
редька всегда сползала на бок; она грызла ногти, и чулки у нее, плохо
натянутые, морщились гармоникой из под не совсем еще длинной юбки. Главное
-- вся повадка ее, чужая и резкая, не вязалась с представлением о
привлекательности, -- не взбредет же на ум человеку присмотреться, длинные
ли ресницы у городового. Посвященный ей Сережей "портрет" начинался так:
Велика штука -- не язык, а пика:
А ну-ка уко-лика, злюка Лика!
А прав был художник, я теперь увидел. Странно: простая миловидность
сразу бросается в глаза, но настоящую большую красоту надо "открыть". Черные
волосы Лики, там, где не были растрепаны, отливали темной синевой,
точь-в-точь оттенка морской воды в тени между скалами в очень яркий день.
Синие были и глаза, в эту минуту с огромными злыми зрачками, и от ресниц
падала тень на полщеки. Лоб и нос составляли одну прямую черту, греческую,
почти без впадины; верхняя губа по рисунку напоминала геральдический лук,
нижняя чуть-чуть выдавалась в презрительном вызове навстречу обидчику. От
обиды она бросила ложку, и я увидел ее пальцы, как карандашики, длинные,
тонкие, прямые, на узкой длинной кисти; и даже обкусанные края не нарушали
овальной формы ногтей. Прежде, чем вскочить, она возмущенно подняла плечи, и
когда опустила их, я в первый раз увидал, что они, хоть и очень еще детские,
срисованы Богом с капитолийской Венеры -- наклонные, два бедра высокого
треугольника, без подушек у перехода в предплечья... Но ложка упала так, что
брызги борща со сметаной разлетелись по всем окрестным лицам; стул
повалился, когда она вскочила; и, не сказав ни слова, она ушла из столовой.
-- Вижу, -- вздохнул художник, -- не захочет барышня позировать.
Анна Михайловна была очень сконфужена и без конца извинялась; гость,
кажется, не обиделся, но почему то очень оскорбленным почувствовал себя я.
Если бы не то, что вообще я с Ликой никогда и двух слов не оказал, я бы в
тот же вечер постучался в ее камеру, вошел бы, не дождавшись "войдите", и
выбранил бы ее всеми словами, какие только в печати дозволены. Но случайно
эта возможность устроить ей сцену представилась мне через несколько дней.
Было это так: однажды ночью мы большой компанией взбирались по крутому
обрыву, гуськом, я предпоследний, а за мною Лика. Утром прошел дождь,
тропинка была еще рыхлая и скользкая. Из под ног у Лики вдруг выкатился
камень, она вскрикнула, села, и ее медленно потащило вниз. Я опустился,
нагнулся и схватил ее за руку.
-- Пустите руку, -- сказала она сердито.
Досада меня взяла; точно малого ребенка, я потащил ее вверх, и она,
словно и вправду упрямый ребенок, выворачивалась и локтем, и плечами, но
все-таки добралась до прочного устоя. Там я ее отпустил; она смотрела мимо,
тяжело дыша, и видно было, что в душе у нее происходит борьба: обругать ли?
сказать ли спасибо? Я отстранился, дал ей пройти вперед; она шагнула, слегка
вскрикнула и села, потирая щиколотку.
-- Не надо ждать, -- сказала она сквозь зубы, глядя все в сторону.
-- Пройдет, тогда и пойдем, -- ответил я с искренним бешенством. -- По
моим правилам не оставляют одной несовершеннолетнюю девицу, которая
вывихнула ногу, даже если она невоспитанная.
Длинная пауза; сверху и голосов уже не было слышно, спутники наши
перевалили через край обрыва. У меня отлегло раздражение, я рассмеялся и
спросил:
-- В чем дело, Лика; или, если угодно, в чем дело, Лидия Игнатьевна --
за что вы так меня возненавидели?
Она пожала плечами:
-- И не думала. Вы для меня просто не существуете. Ни вы, ни... -- Она
поискала слова и нашла целую тираду: -- ни вся эта орава бесполезных вокруг
Маруси, и Марко, и мамы.
-- От ликующих, праздно болтающих, уведи меня в стан погибающих?
-- Можете скалить зубы, мне и это все равно. И, во всяком случае, не в
стан "погибающих".
-- А каких?
Она опять передернула плечами и промолчала, растирая ногу. Полумесяц
светил ей прямо в лицо; очень прав был тот художник.
-- Знаете? -- заговорил я, -- раз, когда у вас было такое выражение
лица, Сережа подтолкнул меня и сказал: Жанна д'Арк слышит голоса.
Вдруг она повернулась ко мне и взглянула прямо в глаза, в первый раз и,
кажется, в последний за все наше знакомство; и невольно я вспомнил слово:
посмотрит -- рублем подарит. Не в смысле ласки или милости "подарок", взгляд
ее был чужой и ко мне совсем не относился: но предо мной открылось окошко в
незнакомый темный сад; и, несмотря на темноту, нельзя было не дать себе
отчета, что большой чей-то сад.
-- Вы меня вытащили, -- сказала она другим тоном, спокойно и учтиво, --
напрасно я на вас огрызнулась; в искупление -- я вам на этот раз отвечу
серьезно, хотя, вообще, право, незачем и не о чем нам разговаривать. Сережа,
если хотите, прав:
"голоса". Я их все время слышу, со всех сторон; они шепчут или кричат
одно и то же, одно слово.
Я ждал, какое, но ей, очевидно, трудно его было выговорить. Я
попробовал помочь:
-- "Хлеба"? "Спаси"?
Она покачала головой, все не сводя с меня повелительных синих глаз:
-- Даже невоспитанной барышне трудно произнести. -- "Сволочь".
Странно, меня не покоробило (хотя написать только что эти семь букв на
бумаге, я не сразу решился): грубое кабацкое слово донеслось из глубины того
чужого сада не руганью, а в каком то первобытном значении, точно вырвала она
его, на языке ветхозаветных отшельников, из затерянной гневной главы
Писания. Теперь мы смотрели друг другу в глаза уже без насмешки с моей
стороны и вызова с ее, серьезно и напряженно, два заклятых врага, которым
настал час договориться до конца.
-- Это вы о ком?
-- Обо всех и ни о ком. Вообще люди. Итог. -- Вы думали, что мои голоса
кричат "хлеба!" и просят: приди и спаси? Это вы мне много чести делаете, не
по заслугам: я-то знаю про голод и Сибирь и все ужасы, но мне никого не
жалко и никого я спасать не пойду, и меньше всего в стан погибающих.
-- Понял: в стан разрушающих? в стан сожигающих?
-- Если хватит меня, да.
-- Одна, без товарищей?
-- Поищу товарищей, когда окрепну.
-- Разве так ищут, каждого встречного заранее осуждая без допроса?
-- Неправда, я сразу делаю допрос, только вам не слышно. Я сразу
чувствую чужого.
Она подумала напряженно, потом сказала:
-- Трудно определить, но, может быть, критерий такой: есть люди с белой
памятью и есть с черной. Первые лучше всего запоминают из жизни хорошее,
оттого им весело... с Марусей, например. А злопамятные записывают только все
черное: "хорошее" у них само собою через час стирается с доски, да и совсем
оно для них и не было "хорошим". Я в каждом человеке сразу угадываю,
черно-памятный он или бело-памятный; незачем допрашивать. -- Теперь я уже
могу пойти, и буду на вас опираться, и наверху скажу спасибо, только уговор
-- как бы это выразить...
Я ей помог:
-- Будьте спокойны, обещаю и впредь обходить вас за версту.
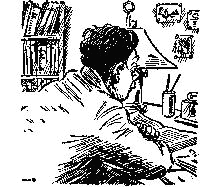 После этого я помню Марко с синей фуражкой на голове; но был ли под
этой фуражкой летний студенческий китель или просто пиджак, т. е. сразу ли
его, сквозь петли процентной нормы, приняли в университет, -- не могу
вспомнить. Это любопытно: биографию сестер и братьев Марко, насколько она
прошла в поле моего зрения или сведения, память моя сохранила, и внешность
их тоже, включая даже милые, но курьезные женские прически и платья того
десятилетия; а самого Марко я забыл. Ни роста его, ни носа его, ни воспетого
Сережей неряшества не запомнил. Когда очень стараюсь воссоздать его облик в
воображении, получаются все какие-то другие люди -- иногда я даже знаю их по
имени, иногда нет, но знаю, что не он. Знаю это по глазам: единственная
подробность его лица, которую могу описать; не цвет, но форму и выражение.
Очень круглые и очень на выкате глаза, добрые и привязчивые и (если можно
так назвать без обиды) навязчивые: голодный взгляд человека, всегда готового
не просто спросить, а именно расспросить, и всему, что получил в ответ,
поверить, поахать и удивиться.
В первый раз мы по душам поговорили еще когда он был гимназистом: он
подсел ко мне где то, или в гостях, или у них же дома.
-- Я вас не слишком стеснил бы, если бы попросил уделить мне
как-нибудь вечер наедине? Целый вечер?
-- Можно, сказал я; -- а позволите узнать, в чем будет дело?
-- Мне нужно, -- ответил он, вглядываясь круглыми глазами, --
расспросить вас об одной вещи: чего, собственно, хочет Ницше?
-- И тут же "пояснил": -- Потому что я, видите ли, убежденный
ницшеанец.
Я не удержался от иронического замечания:
-- Это что то не вяжется. Что вы ницшеанец, давно сказал мне Сережа; но
ведь первая для этого предпосылка -- знать, чего Ницше "хочет"...
Он нисколько не смутился -- напротив, объяснил очень искренно и по
своему логично:
-- Я его пробовал читать; у меня есть почти все, что вышло по-русски;
хотите, покажу. Я, вообще, видите ли, массу читаю; но так уж нелепо устроен
-- если сам читаю, главного никогда не могу понять; не только философию, но
даже стихи и беллетристику. Мне всегда нужен вожатый: он ткнет пальцем,
скажет: вот оно! -- и тогда мне сразу все открывается.
Тут он немного замялся и прибавил:
-- В семье у нас, и товарищи тоже, думают, видите ли, что я просто
дурак. Я в это не верю; но одно правда -- я не из тех людей, которым
полагается размышлять собственной головой. Я, видите ли, из тех людей,
которым полагается всегда прислушиваться.
Эта исповедь меня обезоружила и даже заинтересовала; но я все-таки еще
спросил:
-- Откуда же вы знаете, что вы уже ницшеанец?
-- А разве надо знать хорошо Библию, чтоб быть набожным? Я где то
слышал, что, напротив -- у католиков в старину будто бы запрещено было
мирянам читать Евангелие без помощи ксендза: чтобы вера не скисла.
Вечер я ему дал, это было нетрудно: мода на Ницше тогда только что
докатилась до России, о нем уже три доклада с прениями состоялись у нас в
"литературке"; книги его были у меня; все ли были тогда разрезаны, ручаться
не стану, но рассказать своими словами -- пожалуйста. Марко, в самом деле,
умел "прислушиваться"; и, хоть я сначала мысленно присоединился к мнению
семьи и товарищей, им же цитированному, вскоре, однако, начал сомневаться,
вполне ли это верно. Если и был он дурак, то не простой, a sui generis.
Собственно, и "семья" держалась того же квалифицированного взгляда; по
крайней мере отец. На эту тему Игнац Альбертович однажды прочитал мне вроде
лекции. Началось, помню, с того, что Марко что то где то напутал, отец был
недоволен, а Сережа старшим басом сказал брату:
-- Марко, Марко, что из тебя выйдет? Подумай только -- Александру
Македонскому в твоем возрасте было уже почти двадцать лет!!
После этого мы с Игнацом Альбертовичем остались одни, и вдруг он меня
спросил:
-- Задавались ли вы когда-нибудь мыслью о категориях понятия "дурак"?
Тут он и прочитал мне лекцию, предупредив, что классификация
принадлежит не ему, а почерпнута частью из любимых его немецко-еврейских
авторов, частью из фольклора волынского гетто, где он родился. Дураки,
например, бывают летние и зимние. Ты сидишь у себя в домике зимою, а на
улице вьюга, все трещит и хлопает: кажется тебе, что кто то постучался в
дверь, но ты не уверен -- может быть, просто ветер. Наконец, ты
откликаешься: войдите. Кто то вваливается в сени, весь закутанный, не
разберешь -- мужчина или женщина; фигура долго возится, развязывает башлык,
выпутывается из валенок -- и только тогда, в конце концов, ты узнаешь: перед
тобою дурак. Это -- зимний. Летний дурак зато впорхнет к тебе налегке, и ты
сразу видишь, кто он такой. -- Затем возможна и классификация по другому
признаку: бывает дурак пассивный и активный; первый сидит себе в углу и не
суется не в свои темы, и это часто даже тип очень уютный для сожительства, а
также иногда удачливый в смысле карьеры; зато второй удручающе неудобен.
-- Но этого недостаточно, -- закончил он, -- я чувствую, что нужен еще
третий какой-то метод классификации, скажем -- по обуви: одна категория
рождается со свинцовыми подошвами на ногах, никакими силами с места не
сдвинешь; а другая, напротив, в сандалиях с крылышками, на манер Меркурия...
или Марко?
После этого я помню Марко с синей фуражкой на голове; но был ли под
этой фуражкой летний студенческий китель или просто пиджак, т. е. сразу ли
его, сквозь петли процентной нормы, приняли в университет, -- не могу
вспомнить. Это любопытно: биографию сестер и братьев Марко, насколько она
прошла в поле моего зрения или сведения, память моя сохранила, и внешность
их тоже, включая даже милые, но курьезные женские прически и платья того
десятилетия; а самого Марко я забыл. Ни роста его, ни носа его, ни воспетого
Сережей неряшества не запомнил. Когда очень стараюсь воссоздать его облик в
воображении, получаются все какие-то другие люди -- иногда я даже знаю их по
имени, иногда нет, но знаю, что не он. Знаю это по глазам: единственная
подробность его лица, которую могу описать; не цвет, но форму и выражение.
Очень круглые и очень на выкате глаза, добрые и привязчивые и (если можно
так назвать без обиды) навязчивые: голодный взгляд человека, всегда готового
не просто спросить, а именно расспросить, и всему, что получил в ответ,
поверить, поахать и удивиться.
В первый раз мы по душам поговорили еще когда он был гимназистом: он
подсел ко мне где то, или в гостях, или у них же дома.
-- Я вас не слишком стеснил бы, если бы попросил уделить мне
как-нибудь вечер наедине? Целый вечер?
-- Можно, сказал я; -- а позволите узнать, в чем будет дело?
-- Мне нужно, -- ответил он, вглядываясь круглыми глазами, --
расспросить вас об одной вещи: чего, собственно, хочет Ницше?
-- И тут же "пояснил": -- Потому что я, видите ли, убежденный
ницшеанец.
Я не удержался от иронического замечания:
-- Это что то не вяжется. Что вы ницшеанец, давно сказал мне Сережа; но
ведь первая для этого предпосылка -- знать, чего Ницше "хочет"...
Он нисколько не смутился -- напротив, объяснил очень искренно и по
своему логично:
-- Я его пробовал читать; у меня есть почти все, что вышло по-русски;
хотите, покажу. Я, вообще, видите ли, массу читаю; но так уж нелепо устроен
-- если сам читаю, главного никогда не могу понять; не только философию, но
даже стихи и беллетристику. Мне всегда нужен вожатый: он ткнет пальцем,
скажет: вот оно! -- и тогда мне сразу все открывается.
Тут он немного замялся и прибавил:
-- В семье у нас, и товарищи тоже, думают, видите ли, что я просто
дурак. Я в это не верю; но одно правда -- я не из тех людей, которым
полагается размышлять собственной головой. Я, видите ли, из тех людей,
которым полагается всегда прислушиваться.
Эта исповедь меня обезоружила и даже заинтересовала; но я все-таки еще
спросил:
-- Откуда же вы знаете, что вы уже ницшеанец?
-- А разве надо знать хорошо Библию, чтоб быть набожным? Я где то
слышал, что, напротив -- у католиков в старину будто бы запрещено было
мирянам читать Евангелие без помощи ксендза: чтобы вера не скисла.
Вечер я ему дал, это было нетрудно: мода на Ницше тогда только что
докатилась до России, о нем уже три доклада с прениями состоялись у нас в
"литературке"; книги его были у меня; все ли были тогда разрезаны, ручаться
не стану, но рассказать своими словами -- пожалуйста. Марко, в самом деле,
умел "прислушиваться"; и, хоть я сначала мысленно присоединился к мнению
семьи и товарищей, им же цитированному, вскоре, однако, начал сомневаться,
вполне ли это верно. Если и был он дурак, то не простой, a sui generis.
Собственно, и "семья" держалась того же квалифицированного взгляда; по
крайней мере отец. На эту тему Игнац Альбертович однажды прочитал мне вроде
лекции. Началось, помню, с того, что Марко что то где то напутал, отец был
недоволен, а Сережа старшим басом сказал брату:
-- Марко, Марко, что из тебя выйдет? Подумай только -- Александру
Македонскому в твоем возрасте было уже почти двадцать лет!!
После этого мы с Игнацом Альбертовичем остались одни, и вдруг он меня
спросил:
-- Задавались ли вы когда-нибудь мыслью о категориях понятия "дурак"?
Тут он и прочитал мне лекцию, предупредив, что классификация
принадлежит не ему, а почерпнута частью из любимых его немецко-еврейских
авторов, частью из фольклора волынского гетто, где он родился. Дураки,
например, бывают летние и зимние. Ты сидишь у себя в домике зимою, а на
улице вьюга, все трещит и хлопает: кажется тебе, что кто то постучался в
дверь, но ты не уверен -- может быть, просто ветер. Наконец, ты
откликаешься: войдите. Кто то вваливается в сени, весь закутанный, не
разберешь -- мужчина или женщина; фигура долго возится, развязывает башлык,
выпутывается из валенок -- и только тогда, в конце концов, ты узнаешь: перед
тобою дурак. Это -- зимний. Летний дурак зато впорхнет к тебе налегке, и ты
сразу видишь, кто он такой. -- Затем возможна и классификация по другому
признаку: бывает дурак пассивный и активный; первый сидит себе в углу и не
суется не в свои темы, и это часто даже тип очень уютный для сожительства, а
также иногда удачливый в смысле карьеры; зато второй удручающе неудобен.
-- Но этого недостаточно, -- закончил он, -- я чувствую, что нужен еще
третий какой-то метод классификации, скажем -- по обуви: одна категория
рождается со свинцовыми подошвами на ногах, никакими силами с места не
сдвинешь; а другая, напротив, в сандалиях с крылышками, на манер Меркурия...
или Марко?
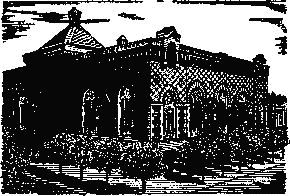 Еще как то наблюдал я его под Новый Год, на студенческом балу в
"мертвецкой". Бал всегда происходил в прекрасном дворце биржи (пышному слову
"дворец" никто из земляков моих тут не удивится, а с иноземцами я на эту
тему и объясняться не намерен). "Мертвецкой" называлась в этих случаях одна
из боковых зал, куда впускали только отборнейшую публику, отборнейшую в
смысле "передового" устремления души; и впускать начинали только с часу
ночи. Пили там солидно, под утро иные даже до истинного мертвецкого градуса;
но главный там запой был идейный и словесный. Хотя допускались и штатские,
массу, конечно, составляли студенты. Был стол марксистов и стол народников,
столы поляков, грузин, армян (столы сионистов и Бунда появились через
несколько лет, но в самые первые годы века я их еще не помню). За главным
столом сановито восседали факультетские и курсовые старосты, и к ним жалось
еще себя не определившее, внефракционное большинство. За каждым столом то
произносились речи, то пелись песни; в первые часы ораторы говорили с мест,
ближе к утру вылезали на стол; еще ближе к утру -- одновременно за тем же
столом проповедывали и со стола, и снизу, а аудитория пела. К этому времени
тактично исчезали популярные профессора, но в начале ночи и они принимали
перипатетическое участие в торжестве, переходя от стола к столу с краткими
импровизациями из неписанной хрестоматии застольного златоустия. "Товарищи
студенты, это шампанское -- слишком дорогое вино, чтобы пить его мне за вас,
тем более вам за меня. Выпьем за нечто высшее -- за то, чего мы все ждем с
году на год: да свершится оно в наступающем году"... "Коллеги, среди нас
находится публицист, труженик порабощенного слова: подымите бокалы за то,
чтобы слово стало свободным...".
В тот вечер пустили туда и Марко, -- хоть и тут я не помню, был ли он
уже тогда студентом. Вошел он нерешительно, не зная, куда притулиться; кто
то знакомый его подозвал к столу, где сидя и стоя толпились черноволосые
кавказцы -- издали не разобрать было, какой национальности -- там он уж и
остался на весь вечер. Оглядываясь на него от времени до времени, я видел,
что ему с ними совсем по себе: он подпевал, махал руками, кричал, поддакивал
ораторам, хотя большинство их там, кажется, говорило на родном своем языке.
Когда сам мало пьешь, любопытно и грустно следить, как заканчивается
разгульная ночь. Постепенно деревенеют мускулы зеленых или фиолетовых лиц,
застывают стекляшками глаза, мертвенно стукаются друг о друга шатающиеся,
как на подпорках, слова; на столах налито, у мужчин помяты воротнички и края
манжет замуслены, а кто во фраке, у тех сломаны спереди рубахи; вообще, все
уже стало погано, уже в дверях незримая стоит поденщица с ведром и половой
тряпкой... Удивительно, по моему, подходило к этой минуте там в мертвецкой
заключительное "Gaudeamus", самая заупокойная песня на свете.
Марко проводил меня домой; он тоже мало выпил, но был пьян от вина
духовного, и именно кахетинского. Он мурлыкал напев и слова "мравал
джамиэр"; два квартала подряд, никогда не видавши Кавказа, живописал
Военно-грузинскую дорогу и Тифлис; что то доказывал про царицу Тамару и
поэта Руставели... Лермонтов пишет: "бежали робкие грузины" -- что за
клевета на рыцарственное племя! Марко все уже знал о грузинском движении,
знал уже разницу между понятиями картвелы, имеретины, сванеты, лазы, даже и
языком уже овладел -- бездомную собачонку на углу поманил: "моди ак", потом
отогнал прочь: "цади!" (за точность не ручаюсь, так запомнилось); и закончил
вздохом из самой глубины души:
-- Глупо это: почему нельзя человеку взять, да объявить себя грузином?
Я расхохотался:
-- Марко, есть тут один доктор-сионист, у него горничная Гапка; раз она
подавала чай у них на собрании, а потом ее докторша спросила: как тебе
понравилось? А Гапка ответила, тоном благоговейной покорности року: що ж,
барыня, треба йихати до Палестыны!
Он обиделся; нашел, что это совсем не то, и вообще эта Гапка -- старый
анекдот, десять раз уже слышал.
-- Кстати, Марко, -- сказал я, зевая, -- если уж искать себе нацию,
отчего бы вам не приткнуться к сионистам?
Он на меня вытаращил круглые глаза с полным изумлением; ясно было по
этому взгляду, что даже в шутку, в пять часов утра, не может нормальный
человек договориться до такой беспредельной несуразности.
Еще как то наблюдал я его под Новый Год, на студенческом балу в
"мертвецкой". Бал всегда происходил в прекрасном дворце биржи (пышному слову
"дворец" никто из земляков моих тут не удивится, а с иноземцами я на эту
тему и объясняться не намерен). "Мертвецкой" называлась в этих случаях одна
из боковых зал, куда впускали только отборнейшую публику, отборнейшую в
смысле "передового" устремления души; и впускать начинали только с часу
ночи. Пили там солидно, под утро иные даже до истинного мертвецкого градуса;
но главный там запой был идейный и словесный. Хотя допускались и штатские,
массу, конечно, составляли студенты. Был стол марксистов и стол народников,
столы поляков, грузин, армян (столы сионистов и Бунда появились через
несколько лет, но в самые первые годы века я их еще не помню). За главным
столом сановито восседали факультетские и курсовые старосты, и к ним жалось
еще себя не определившее, внефракционное большинство. За каждым столом то
произносились речи, то пелись песни; в первые часы ораторы говорили с мест,
ближе к утру вылезали на стол; еще ближе к утру -- одновременно за тем же
столом проповедывали и со стола, и снизу, а аудитория пела. К этому времени
тактично исчезали популярные профессора, но в начале ночи и они принимали
перипатетическое участие в торжестве, переходя от стола к столу с краткими
импровизациями из неписанной хрестоматии застольного златоустия. "Товарищи
студенты, это шампанское -- слишком дорогое вино, чтобы пить его мне за вас,
тем более вам за меня. Выпьем за нечто высшее -- за то, чего мы все ждем с
году на год: да свершится оно в наступающем году"... "Коллеги, среди нас
находится публицист, труженик порабощенного слова: подымите бокалы за то,
чтобы слово стало свободным...".
В тот вечер пустили туда и Марко, -- хоть и тут я не помню, был ли он
уже тогда студентом. Вошел он нерешительно, не зная, куда притулиться; кто
то знакомый его подозвал к столу, где сидя и стоя толпились черноволосые
кавказцы -- издали не разобрать было, какой национальности -- там он уж и
остался на весь вечер. Оглядываясь на него от времени до времени, я видел,
что ему с ними совсем по себе: он подпевал, махал руками, кричал, поддакивал
ораторам, хотя большинство их там, кажется, говорило на родном своем языке.
Когда сам мало пьешь, любопытно и грустно следить, как заканчивается
разгульная ночь. Постепенно деревенеют мускулы зеленых или фиолетовых лиц,
застывают стекляшками глаза, мертвенно стукаются друг о друга шатающиеся,
как на подпорках, слова; на столах налито, у мужчин помяты воротнички и края
манжет замуслены, а кто во фраке, у тех сломаны спереди рубахи; вообще, все
уже стало погано, уже в дверях незримая стоит поденщица с ведром и половой
тряпкой... Удивительно, по моему, подходило к этой минуте там в мертвецкой
заключительное "Gaudeamus", самая заупокойная песня на свете.
Марко проводил меня домой; он тоже мало выпил, но был пьян от вина
духовного, и именно кахетинского. Он мурлыкал напев и слова "мравал
джамиэр"; два квартала подряд, никогда не видавши Кавказа, живописал
Военно-грузинскую дорогу и Тифлис; что то доказывал про царицу Тамару и
поэта Руставели... Лермонтов пишет: "бежали робкие грузины" -- что за
клевета на рыцарственное племя! Марко все уже знал о грузинском движении,
знал уже разницу между понятиями картвелы, имеретины, сванеты, лазы, даже и
языком уже овладел -- бездомную собачонку на углу поманил: "моди ак", потом
отогнал прочь: "цади!" (за точность не ручаюсь, так запомнилось); и закончил
вздохом из самой глубины души:
-- Глупо это: почему нельзя человеку взять, да объявить себя грузином?
Я расхохотался:
-- Марко, есть тут один доктор-сионист, у него горничная Гапка; раз она
подавала чай у них на собрании, а потом ее докторша спросила: как тебе
понравилось? А Гапка ответила, тоном благоговейной покорности року: що ж,
барыня, треба йихати до Палестыны!
Он обиделся; нашел, что это совсем не то, и вообще эта Гапка -- старый
анекдот, десять раз уже слышал.
-- Кстати, Марко, -- сказал я, зевая, -- если уж искать себе нацию,
отчего бы вам не приткнуться к сионистам?
Он на меня вытаращил круглые глаза с полным изумлением; ясно было по
этому взгляду, что даже в шутку, в пять часов утра, не может нормальный
человек договориться до такой беспредельной несуразности.
 Прежде всего я это заметил по личной эволюции одного скромного
гражданина: он состоял дворником нашего двора. Звали его Хома, и был он
чернобородый мужик из Херсонщины. Я в том доме жил давно, и с Хомой
поддерживал наилучшие отношения. По ночам, на мой звонок у ворот, он сейчас
же вылезал из своего подпольного логова, "одчинял фортку" -- т. е. калитку
-- и, приемля гривенник, вежливо, как бы ни был заспан, кивал чуприной и
говорил: -- Мерси вам, паныч. -- Если, войдя на кухню, кто либо из домашних
заставал его в рукопашном общении с хорошенькой нашей горничной Мотрей, он
быстро от нее отстранялся, снимал картуз и смущенно докладывал, что визит
его объясняется заботой о наших же интересах -- побачить, например, чи труба
не дымить, или чи вьюшки не спорчены. Словом, это был прежде нормальный
обыватель из трудового сословия, сам жил и другим давал жить, и никаких
притязаний на высоты командной позиции не предъявлял.
Но постепенно стала в нем намечаться психологическая перемена. Первой,
помню, отметила ее Мотря. Раз как то не хватило дров: ей сказали, как
всегда, попросить дворника, чтобы поднял из погреба охапку: она сбегала во
двор и, вернувшись, доложила:
-- Фомы Гаврилыча нема: воны ушедши.
Я даже не сразу понял, о ком она говорит; особенно потрясло меня
деепричастие вместо простого прошедшего. Мотря, до нас служившая у генерала,
точно соблюдала эти глагольные тонкости и всегда оттеняла, что прачка
"ушла", а барыня -- "ушедши". Я смутно ощутил, что в общественном положении
нашего дворника совершается какой то процесс возвышения.
После этого я лично стал наблюдать тревожные признаки. Ночью
приходилось простаивать у ворот, топая озябшими ногами, и пять минут, и
десять. Получая традиционный гривенник, Хома теперь уже нередко подносил
монету к глазам и рассматривал ее, в тусклом освещении подворотни, с таким
выражением, которое ясно говорило, что традиция не есть еще ограничительный
закон. Свою формулу благодарности он стал постепенно сокращать: "мерси,
паныч", потом просто "спасибо" -- причем, опять таки, не только опущение
титула, но и переход с французского языка на отечественный звучал
многозначительно. Однажды, продержав меня чуть не полчаса на морозе, он мне
даже сделал замечание: -- тут, паныч, не церква, щоб так трезвонить! -- А в
следующий раз, покачав головою, отозвался назидательно: -- поздно гуляете,
то и для здоровья шкода!
Кончилось тем, что я, по робости натуры, звонил один раз и покорно
ждал; гривенник заменил пятиалтынным; сам, вручая монету, произносил
"спасибо", а Хома в ответ иногда буркал что то нечленораздельное, а иногда
ничего. Но не в этом суть: много характернее для охватившей империю огневицы
(как солнце в капле, отражалась тогда империя в моем дворнике) было то, что
Хома с каждой неделей становился все более значительным фактором моей жизни.
Я ощущал Хому все время, словно не удавшийся дантисту вставной зуб. Он уже
давно не сочувствовал, когда у меня собирались гости: однажды позвонил в
половине двенадцатого и спросил у Мотри, чи то не заседание, бо за пивом не
послали, и шо-то не слышно, шоб спивали, як усегда. В другой раз забрал мою
почту у письмоносца и, передавая пачку мне, заметил пронзительно:
-- Заграничные газеты получаете?
Я поделился этими наблюдениями со знакомыми:
все их подтвердили. Дворницкое сословие стремительно повышалось в чине
и влиянии, превращалось в основной стержень аппарата государственной власти.
Гражданин думал, будто он штурмует бастионы самодержавия;
на самом деле, осаду крепостей вело начальство, -- миллионов крепостей,
каждого дома, и авангард осаждающей армии уже сидел в подвальных своих
окопах по ею сторону ворот.
Любопытно было и ночное оживление на улицах. Несмотря на всю нашу
столичную спесь, мы привыкли к тому, что в два часа ночи, когда
возвращаешься домой с дружеской беседы, никого на улицах нет, и утешали
муниципальное самолюбие наше ссылкой на Вену, где люди тоже рано ложатся
спать. Но теперь я почти еженощно в эти часы где-нибудь наталкивался на
молчаливое шествие: впереди жандармский ротмистр, за ним свойственная ему
свита -- и уж где то некий другой Хома, или мой собственный, загодя
предупрежденный о назначенном обыске, ждал, не засыпая, властного звонка, и
уже завербовал приятеля на амплуа второго понятого.
С другой стороны слышно было и видно; что и осажденные готовятся к
вылазке. Слышно: во вcем городе шептались, что предстоит "демонстрация". Что
такое демонстрация, никто точно не знал -- никогда не видал ее ии сам, ни
дед его; именно поэтому чудилось, что прогулка ста юношей и девиц по
мостовой на Дерибасовской улице с красным знаменем во главе будет для врага
ударом неслыханной силы, от которого задрожат и дворцы, и тюрьмы. Народный
шепот несколько раз даже называл точный месяц и число того воскресенья,
когда разразится эта бомба; покамест еще, однако, невпопад. Но уже ясно
было, кто будут участники этого грозного похода с Соборной площади на угол
Ришельевской улицы: они так отчетливо бросались в глаза на каждом шагу, и
молодые люди, и девицы, словно бы уже заранее для этого облеклись в какую то
особенную форменную одежду.
Впрочем, это и была почти форменная одежда: не в смысле покроя и цвета,
а в смысле общего какого то стиля. Об экстернах я уже говорил; теперь, в еще
большем, пожалуй, количестве, появились в обиходе их духовные подруги.
Сережа первый принес в нашу среду сборное имя, которым (он божился) их
обозначали заглазно даже собственные товарищи, хотя я долго подозревал, что
кличку придумал он сам: "дрипка", от слова "задрипанный", которого, кажется,
нет еще и в последнем издании словаря Даля. Соломенная шляпка мужского
покроя в виде тарелки, всегда плохо приколотая и съезжавшая на бок, причем
носительница от времени до времени подталкивала ее на место указательным
пальцем; блузка того кроя, который тогда назывался английским, с высоким
отложным воротником и с галстуком, пропущенным в кольцо -- но часто без
галстука и без кольца; юбка на кнопках сбоку, но одной по крайней мере
кнопки обязательно всегда не хватало; башмаки с оборванными шнурками,
переплетенными не через те крючки, что надо, и на башмаках семидневная пыль
всех степей Черноморья; надо всем этим иногда очки в проволочной оправе, и
почти всегда розовая печать хронического насморка.
-- А ты не смейся, -- выговаривал мне приятель, бывший мой
одноклассник, которого потом повесили под Петербургом на Лисьем Носу. -- Ты
их только мысленно переодень и увидишь, кто они такие: дочери библейской
Юдифи.
-- Юдифь? -- рассмеялся, когда я это ему повторил, Сережа. -- А вы на
походку посмотрите. Самое главное в человеке -- походка: ее не переоденешь.
Юдифь шествовала, а эти бегут.
Прежде всего я это заметил по личной эволюции одного скромного
гражданина: он состоял дворником нашего двора. Звали его Хома, и был он
чернобородый мужик из Херсонщины. Я в том доме жил давно, и с Хомой
поддерживал наилучшие отношения. По ночам, на мой звонок у ворот, он сейчас
же вылезал из своего подпольного логова, "одчинял фортку" -- т. е. калитку
-- и, приемля гривенник, вежливо, как бы ни был заспан, кивал чуприной и
говорил: -- Мерси вам, паныч. -- Если, войдя на кухню, кто либо из домашних
заставал его в рукопашном общении с хорошенькой нашей горничной Мотрей, он
быстро от нее отстранялся, снимал картуз и смущенно докладывал, что визит
его объясняется заботой о наших же интересах -- побачить, например, чи труба
не дымить, или чи вьюшки не спорчены. Словом, это был прежде нормальный
обыватель из трудового сословия, сам жил и другим давал жить, и никаких
притязаний на высоты командной позиции не предъявлял.
Но постепенно стала в нем намечаться психологическая перемена. Первой,
помню, отметила ее Мотря. Раз как то не хватило дров: ей сказали, как
всегда, попросить дворника, чтобы поднял из погреба охапку: она сбегала во
двор и, вернувшись, доложила:
-- Фомы Гаврилыча нема: воны ушедши.
Я даже не сразу понял, о ком она говорит; особенно потрясло меня
деепричастие вместо простого прошедшего. Мотря, до нас служившая у генерала,
точно соблюдала эти глагольные тонкости и всегда оттеняла, что прачка
"ушла", а барыня -- "ушедши". Я смутно ощутил, что в общественном положении
нашего дворника совершается какой то процесс возвышения.
После этого я лично стал наблюдать тревожные признаки. Ночью
приходилось простаивать у ворот, топая озябшими ногами, и пять минут, и
десять. Получая традиционный гривенник, Хома теперь уже нередко подносил
монету к глазам и рассматривал ее, в тусклом освещении подворотни, с таким
выражением, которое ясно говорило, что традиция не есть еще ограничительный
закон. Свою формулу благодарности он стал постепенно сокращать: "мерси,
паныч", потом просто "спасибо" -- причем, опять таки, не только опущение
титула, но и переход с французского языка на отечественный звучал
многозначительно. Однажды, продержав меня чуть не полчаса на морозе, он мне
даже сделал замечание: -- тут, паныч, не церква, щоб так трезвонить! -- А в
следующий раз, покачав головою, отозвался назидательно: -- поздно гуляете,
то и для здоровья шкода!
Кончилось тем, что я, по робости натуры, звонил один раз и покорно
ждал; гривенник заменил пятиалтынным; сам, вручая монету, произносил
"спасибо", а Хома в ответ иногда буркал что то нечленораздельное, а иногда
ничего. Но не в этом суть: много характернее для охватившей империю огневицы
(как солнце в капле, отражалась тогда империя в моем дворнике) было то, что
Хома с каждой неделей становился все более значительным фактором моей жизни.
Я ощущал Хому все время, словно не удавшийся дантисту вставной зуб. Он уже
давно не сочувствовал, когда у меня собирались гости: однажды позвонил в
половине двенадцатого и спросил у Мотри, чи то не заседание, бо за пивом не
послали, и шо-то не слышно, шоб спивали, як усегда. В другой раз забрал мою
почту у письмоносца и, передавая пачку мне, заметил пронзительно:
-- Заграничные газеты получаете?
Я поделился этими наблюдениями со знакомыми:
все их подтвердили. Дворницкое сословие стремительно повышалось в чине
и влиянии, превращалось в основной стержень аппарата государственной власти.
Гражданин думал, будто он штурмует бастионы самодержавия;
на самом деле, осаду крепостей вело начальство, -- миллионов крепостей,
каждого дома, и авангард осаждающей армии уже сидел в подвальных своих
окопах по ею сторону ворот.
Любопытно было и ночное оживление на улицах. Несмотря на всю нашу
столичную спесь, мы привыкли к тому, что в два часа ночи, когда
возвращаешься домой с дружеской беседы, никого на улицах нет, и утешали
муниципальное самолюбие наше ссылкой на Вену, где люди тоже рано ложатся
спать. Но теперь я почти еженощно в эти часы где-нибудь наталкивался на
молчаливое шествие: впереди жандармский ротмистр, за ним свойственная ему
свита -- и уж где то некий другой Хома, или мой собственный, загодя
предупрежденный о назначенном обыске, ждал, не засыпая, властного звонка, и
уже завербовал приятеля на амплуа второго понятого.
С другой стороны слышно было и видно; что и осажденные готовятся к
вылазке. Слышно: во вcем городе шептались, что предстоит "демонстрация". Что
такое демонстрация, никто точно не знал -- никогда не видал ее ии сам, ни
дед его; именно поэтому чудилось, что прогулка ста юношей и девиц по
мостовой на Дерибасовской улице с красным знаменем во главе будет для врага
ударом неслыханной силы, от которого задрожат и дворцы, и тюрьмы. Народный
шепот несколько раз даже называл точный месяц и число того воскресенья,
когда разразится эта бомба; покамест еще, однако, невпопад. Но уже ясно
было, кто будут участники этого грозного похода с Соборной площади на угол
Ришельевской улицы: они так отчетливо бросались в глаза на каждом шагу, и
молодые люди, и девицы, словно бы уже заранее для этого облеклись в какую то
особенную форменную одежду.
Впрочем, это и была почти форменная одежда: не в смысле покроя и цвета,
а в смысле общего какого то стиля. Об экстернах я уже говорил; теперь, в еще
большем, пожалуй, количестве, появились в обиходе их духовные подруги.
Сережа первый принес в нашу среду сборное имя, которым (он божился) их
обозначали заглазно даже собственные товарищи, хотя я долго подозревал, что
кличку придумал он сам: "дрипка", от слова "задрипанный", которого, кажется,
нет еще и в последнем издании словаря Даля. Соломенная шляпка мужского
покроя в виде тарелки, всегда плохо приколотая и съезжавшая на бок, причем
носительница от времени до времени подталкивала ее на место указательным
пальцем; блузка того кроя, который тогда назывался английским, с высоким
отложным воротником и с галстуком, пропущенным в кольцо -- но часто без
галстука и без кольца; юбка на кнопках сбоку, но одной по крайней мере
кнопки обязательно всегда не хватало; башмаки с оборванными шнурками,
переплетенными не через те крючки, что надо, и на башмаках семидневная пыль
всех степей Черноморья; надо всем этим иногда очки в проволочной оправе, и
почти всегда розовая печать хронического насморка.
-- А ты не смейся, -- выговаривал мне приятель, бывший мой
одноклассник, которого потом повесили под Петербургом на Лисьем Носу. -- Ты
их только мысленно переодень и увидишь, кто они такие: дочери библейской
Юдифи.
-- Юдифь? -- рассмеялся, когда я это ему повторил, Сережа. -- А вы на
походку посмотрите. Самое главное в человеке -- походка: ее не переоденешь.
Юдифь шествовала, а эти бегут.
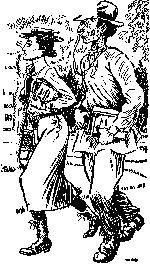 "Бегут": меткое слово. У них самих оно всегда было на языке. Точно
выпали из обихода все другие темпы и способы передвижения: "передать
записку? я бегу". "Забежала проведать Осю, "о его дома нет". Даже, в редкие
минуты роскоши: "сегодня вечером идет в театре "Возчик Геншель", надо
сбегать посмотреть".
Но тот приятель мой в одном был, во всяком случае, не прав: я не
смеялся, а скорее тревожился. Однажды утром в глухой аллее парка, за той
ложбиной, что называлась у мальчиков Азовским морем, я издали увидел одну из
дочерей Юдифи: она шла мне навстречу с юношей в косоворотке и, проходя мимо,
оба и не посмотрели на меня, только понизили голоса. У этой не было ни
очков, ни насморка, и походка была не та, но все остальное имелось в
наличии: шляпа-тарелка, оборванные кнопки, перепутанные шнурки на пыльных
башмаках; и я узнал Лику.
"Бегут": меткое слово. У них самих оно всегда было на языке. Точно
выпали из обихода все другие темпы и способы передвижения: "передать
записку? я бегу". "Забежала проведать Осю, "о его дома нет". Даже, в редкие
минуты роскоши: "сегодня вечером идет в театре "Возчик Геншель", надо
сбегать посмотреть".
Но тот приятель мой в одном был, во всяком случае, не прав: я не
смеялся, а скорее тревожился. Однажды утром в глухой аллее парка, за той
ложбиной, что называлась у мальчиков Азовским морем, я издали увидел одну из
дочерей Юдифи: она шла мне навстречу с юношей в косоворотке и, проходя мимо,
оба и не посмотрели на меня, только понизили голоса. У этой не было ни
очков, ни насморка, и походка была не та, но все остальное имелось в
наличии: шляпа-тарелка, оборванные кнопки, перепутанные шнурки на пыльных
башмаках; и я узнал Лику.